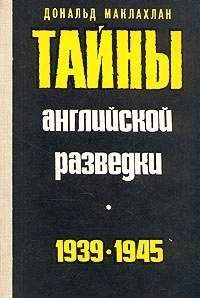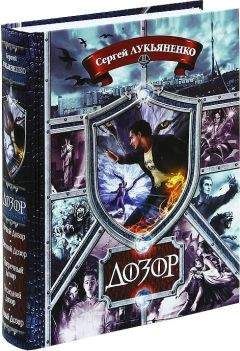— Сережа… — произнесла она обрадованно. — Куда ты пропал? — Она взяла его за руку. — Наверное, мне не следует тебе этого говорить, чтобы ты не зазнался… Вы, мужчины, такие… — она улыбнулась. — Такие… А ведь я все время думала о тебе. Вот…
— Я видел, о ком ты думаешь, — закипая, начал Шавров, внутренне ужасаясь своим словам и понимая с безнадежным отчаянием, что, произнося их, он подписывает себе смертный приговор. Но остановиться уже не мог. — С ним тебе удобнее? Он под боком? И жалованье не чета моему?
— Ты скажи, сколько получаешь, и мы сравним, — холодно сказала Таня.
— А я ничего не получаю! Я на фронте кровь проливал! А он…
— А он проливает кровь врагов революции, это ты хотел сказать? — совсем уже ледяным тоном произнесла Таня. — Ну что ж… Это правда. Только знаешь, это ведь обыватели считают, что кровь врага пролить — все равно что воды напиться. Значит, и ты, Сережа, мелкий обыватель, увы…
— Я ненавижу тебя!
— Дурак… — Она захлопнула дверь лифта и уехала.
Опустошенный, в полном отчаянии Шавров стоял на лестнице и прислушивался, казалось — вот-вот стукнет наверху дверь, появится Таня и скажет: «Ладно, поиграли и — хватит! Пойдем». Что ж, двери наверху действительно хлопнули два или три раза, и лифт поднялся и опустился — он почему-то работал в этот вечер, но Таня так и не пришла.
Наблюдение за Сушневым вели круглосуточно три бригады, по два человека в каждой. Когда была возможность, выделяли автомобиль, но это случалось крайне редко, как правило, давали только извозчика. Дежурили по восемь часов. Уже на третий день, просматривая дневник наблюдения, Барабанов сказал:
— Ерунда все это… Вы посмотрите, что пишут: «Не выходил из сторожки сутки полностью». «Вышел к могиле Твердохлебова, мыл гранитный памятник, подметал». «В девять утра молился в церкви. Никаких встреч и разговоров не зафиссировано».
— Не зафиксировано, — угрюмо поправил Еремин.
— Ты это старшему скажи, — беззлобно отмахнулся Барабанов. — Я читаю, как написано.
— Ладно вам, — вздохнул Егор Елисеевич. — Вы ведь тоже не боги… А грамотный работник наблюдения — это и вовсе мечта… Отдаленная перспектива. — Он взял у Барабанова дневник и перелистал. — Значит — ерунда? Не веришь, что Сушнев прямая связь банд-группы?
— А где встречи? Эти… Контакты? — парировал Барабанов.
— Может, он в отстой ушел? — засомневался Еремин. — А что он сегодня делая?
— Да все едино, — вздохнул Барабанов. — Снова мыл памятник — только не Твердохлебова, а Батькина какого-то…
— А что, если он на этих памятниках оставляет сообщения? — спросил Егор Елисеевич. — А точнее — сначала их получает?
— Это что же, у них точки для связи предусмотрены заранее? По часам и числам? — Барабанов замотал головой. — Не-е, фантазия. А если опять осечка? А на самом деле вы правы? Они же сразу сменят схему, если, конечно, она существует. И чего мы добьемся?
— А она вполне может существовать, — поддержал Еремин. — Дело у них серьезное, люди они грамотные, нас водят за нос, как слепых кутенят.
— Ты говори по существу, — предложил Егор Елисеевич. — Что делать?
— Полностью обеспечить кладбище наблюдением, — пожал плечами Еремин. — А что? Есть другие предложения?
— Каждый памятник? — ехидно осведомился Барабанов. — Ну ты стратиг…
— Стратег… — поправил Еремин.
— Стратиг, — кивнул Барабанов. — Стратег — это, видишь ли, Суворов, Кутузов и в крайнем случае провокатор Евно Азеф, если ты о таком слыхал, а ты, Дима, стратиг, да и то не архи…
— Кончайте базар-вокзал, — нахмурился Егор Елисеевич. — Сделаем так: наблюдение пусть идет своим чередом. А мы сегодня же вечером осмотрим памятники. На каком расстоянии от сторожки похоронен этот Твердохлебов?
Барабанов заглянул в дневник:
— Сто метров. И Батькин — тоже сто.
— Старшему благодарность за эту деталь, — сказал Егор Елисеевич. — А церковь на каком расстоянии от сторожки?
— Это и без дневника ясно… — Барабанов начал тереть лоб. — Там метров пятьдесят.
— Значит, — подхватил Егор Елисеевич, — берем план Ваганьковского кладбища и проводим окружность, центром которой является, сторожка. Радиус берем сто метров. В зоне будет сотни три надгробий… Если предположить, что весточки кладутся не на каждую могилу, а только на монументальные надгробия — число вероятных тайников сократится до сотни, а то и меньше, — Егор Елисеевич обвел подчиненных веселым взглядом. — Я так полагаю, что нам с вами это все — раз плюнуть!
…Солнце высветило пилоны кладбищенских ворот, на фоне темно-зеленой, уже набравшей летнюю силу листвы они смотрелись совсем белыми. Церковь, как и обычно в это время, окружала густая толпа, глазастый Еремин сразу же заметил сторожа — тот стоял среди прихожан и истово крестился.
— Вчерашний день ловим… — невесело обронил Еремин. — Да какая к черту наружка выявит его связи в такой толпе?
— Ты уже предлагал… — улыбнулся Барабанов. — У каждого памятника поставить пост наблюдения. Стратиг…
— А что, ребята, — вдруг спросил Егор Елисеевич, — вы никогда не думали, почему на кладбищах такая чертовски зеленая листва?
— Чего? — обалдело протянул Еремин. — Вы это про чего?
— Про листики, Дима, — уточнил Барабанов. — Так какие у тебя размышления на сей счет? Поделись!
— Да не знаю я! — отмахнулся было Еремин, но, поймав совсем уж насмешливый взгляд товарища, добавил: — Простее простого все. Из покойников деревья растут, а они — самое лучшее удобрение!
Егор Елисеевич покачал головой и улыбнулся.
— А ты, Петя?
— Не ко времени разговор, — сухо ответил Барабанов. — Однако причин много. Одну, сколь ни пошло звучит, стратиг назвал верно. А еще… — Он задумался. — Печальное место… Угнетающее. По простой справедливости должно же здесь быть хоть что-нибудь радостное?
— Верно мыслишь, — кивнул Егор Елисеевич. — Перед войной мне довелось побывать в Швейцарии, в городе Базеле. Времени, конечно, не было, но минутку я нашел и в музей заглянул. И вот одна картина оставила во мне такое сильное впечатление, что я ее до сих пор перед собой как наяву вижу… «Остров смерти» называется. А художник — Арнольд Беклин. Кладбище изображено. Загробный мир. И переправляет туда душу умершего на лодке сам Харон. И такие на этом острове зеленые кипарисы, такой они неописуемой красоты, что наверняка всем умершим в радость…
— Поповщина это… — без улыбки сказал Еремин. — Глупость… Этот ваш, как его там, художничек в угоду богатеям дурит людям головы, вот и вся недолга!
— Ты считаешь? — грустно спросил Егор Елисеевич. — Жаль, если так… Но не думаю. Это ведь не икона.
— А вы зачем в Базеле оказались? — с любопытством спросил Барабанов.
— Курьером ездил, — сказал Егор Елисеевич. — Оружие мы купили, так я деньги вез… Ну ладно, пошли работать:
— Может, в толпе потремся, — предложил Барабанов, — поможем бригаде?
— А это твое дело? — спросил Егор Елисеевич. — Ты не напортишь? Это не просто — глаза за объектом пялить. Нет уж… Они сами по себе, мы — сами по себе. Пошли.
Миновали церковь, сторож стоял на том же месте и крестился еще истовее, толпа пела «Спаси, господи, люди твоя…».
— А вот как они насчет царя споют? — приостановился Барабанов.
— А хоть как, — улыбнулся Егор Елисеевич. — Николай Второй на Урале в неизвестном месте зарыт и ни от каких песнопений из земли не встанет. Кому охота — пусть поет, будем снисходительны.
По заросшей тропинке свернули в глубину кладбища. Мощный хор позади и в самом деле пожелал на высокой ноте «победы благоверному императору нашему Николаю Александровичу», потом голоса смолкли, и стало совсем тихо. Но едва оперативники успели разойтись в разные стороны, послышался встревоженный голос Еремина. Он стоял около высокого мраморного обелиска с медным крестом и показывал на клочок бумаги, засунутый в щель между основанием обелиска и постаментом. Егор Елисеевич вытащил листок, это была почтовая открытка без адреса. На чистой стороне кто-то не слишком умело изобразил огромный кукиш. Егор Елисеевич посмотрел на своих подчиненных и вздохнул:
— Эффектно, конечно… Но я считаю так: дело это мертвую точку перевалило. И скоро ему конец…
Оставалась последняя «ниточка»: Храмов. В справке, полученной из МЧК, говорилось: «Храмов Юрий Евгеньевич, из дворян Московской губернии, поручик, командир роты Московского юнкерского училища. В связи с тем, что училище принимало участие в октябрьских (1917-го) боях на стороне контрреволюции, вышеназванный Храмов Ю. Е, постановлением МЧК от 2 января 1919 г. был превентивно заключен в Александровский концентрационный лагерь — до окончания гражданской войны. Освобожден 18 апреля 1921 года».
Местожительство Храмова — Харитоньевский переулок, дом 2, квартира 8 — проверялось неоднократно, но двери там были наглухо закрыты, соседи по лестничной площадке Храмова ни разу не видели, о его родственниках или иных связях никто и ничего не знал. После очередной проверки Барабанов зашел в домоуправление и позвонил Егору Елисеевичу.
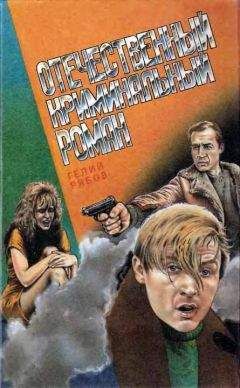
![Гелий Рябов - Приведен в исполнение... [Повести]](https://cdn.my-library.info/books/142777/142777.jpg)