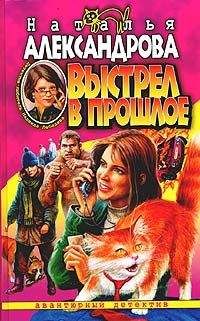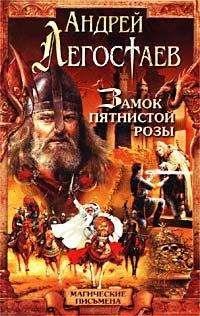Проводив гостей до калитки, Анна Ивановна вернулась в дом, достала из буфета бутылку водки, которую приберегала для разных случаев, налила стопку до краев, выпила одним махом, поморщилась, закусила, за неимением под рукой ничего лучшего, дрянной карамелькой, опять поморщилась и заплакала. Слезы быстро сбегали по ее излишне румяным щекам, не принося облегчения. На нее снова навалился весь тот стыд, весь ужас того давнего лета, она вспомнила все свои застарелые обиды. Обиду на богатых родственников — уехали в свою чертову заграницу, в свое Зазеркалье, оставив на нее свою красавицу-доченьку, а каково ей стеречь эту чертову кобылку, у которой бесенята в глазах и ветер в голове? Сама она ни о какой загранице никогда и не мечтала, она и в Ленинград-то ездила всего считанные разы (как его сейчас-то называют — язык сломаешь!).
Обиду на саму эту нахальную Натэллку — так заигрывать с мужиками, это в пятнадцать-то лет. Понятно, что добром не кончится! Ни стыда ни совести у молодежи… И ведь все ей — как с гуся вода… Родила под чужим именем, ребенок умер, все ей нипочем, тут же забыла. Живет сейчас в полном довольстве… А родители ее так ничего и не узнали, так и молились на свою Натэллочку, воз подарков ей навезли из-за границы… Ей, Анне, они тоже привезли кучу какой-то импортной дряни — Анечка, да мы так тебе благодарны, да ты, наверное, так устала от нашей маленькой разбойницы… Если бы они знали, как она от нее устала! Если бы они знали, чего ей это стоило. Все их проклятые подарки она той же ночью сбросила в нужник. Тина ее все спрашивала: «Анечка, что же ты не носишь ту хорошенькую розовую блузочку? Анечка, что же ты не носишь те миленькие бежевые брючки?» Разбитую жизнь розовой блузочкой не спасешь.
Из соседней комнаты донесся сухой кашель. Лицо Анны перекосилось от ненависти. Она встала из-за стола и нетвердой походкой пошла к нему — к тому, кто сгубил ее молодость, сломал ее жизнь, разбил ее сердце.
Он сидел в громоздком допотопном инвалидном кресле — жалкий, беспомощный, жалкая тень того красавца-мужчины, который когда-то свел ее с ума, — и не ее одну… Сейчас он казался глубоким стариком, а ведь он был моложе ее, Анны, и постоянно колол ее этим, чуть не в глаза называл «Моя старуха», крутил романы направо и налево…
— Анечка, кто там у тебя был? Я слышал женские голоса!
Теперь ему только и осталось слышать женские голоса из соседней комнаты. Дряхлый больной, парализованный старик, мучимый постоянными жестокими приступами астмы. Вся комната пропахла лекарствами. Целый арсенал их выстроился на тумбочке. Вот, забеспокоился, ищет, ищет свой аэрозоль, аж посерел от страха — минуты прожить не может, если этого флакона под рукой нет, так боится задохнуться… Из последних сил цепляется за свою жалкую никчемную жизнь! Что за нее держаться? Его жизнь состоит их одних мучений, так нет же — вцепился мертвой хваткой! Вот, нашел свой флакон, успокоился.
— Анечка, что же ты не отвечаешь мне? Что же ты молчишь?
Она всегда молчала, всю жизнь, молчание стало ее именем, ее лицом, ее профессией. Она молчала, когда он неделями не ночевал дома. Молчала, когда он приводил своих проклятых баб прямо сюда, в ее дом. Молчала, когда он тратил на них ее деньги, ее жалкие гроши, ради которых она ломала поясницу на участке, унижалась, продавая у вокзала цветы и ягоды, годами ходила в старых платьях и стоптанных туфлях… А ведь она была еще молодой женщиной, старше его всего на четыре года — подумаешь? На самом-то деле на шесть, но он не знал, подонок, — она исправила год рождения в паспорте, лишних два года потом на пенсию не могла выйти, но черт с ней, с пенсией, — она молчала. Один только раз, один раз тем проклятым летом, чаша ее терпения переполнилась, ненависть выплеснулась через край.
Лето было жаркое, пьянящее, сады ломились от сирени, запах ее плыл над Лугой, врываясь в окна, сводя с ума. Аннин красавец-муж стал подозрительно часто бывать дома. Ей бы задуматься, заподозрить, а она только радовалась, что он здесь, с ней… С ней!
— Анечка, ты мне так и не сказала, кто к нам приходил? Анечка, у меня заканчивается мой аэрозоль. Принеси мне следующий флакон. У меня всегда должно быть под рукой это лекарство, на случай приступа, ты же знаешь!
Да, она знает. Она знает, какие лекарства давать ему до еды, а какие — после, какие — с утра, а какие — перед сном. Она существует только для того, чтобы ему было что есть, чтобы у него были все его проклятые лекарства, которыми она уже сама пропахла, как другие женщины — духами, чтобы ему было тепло, чтобы он был чист и ухожен — Боже, как же она его ненавидит!
— Ты спрашиваешь, кто там приходил? Приходили расспрашивать про то лето, про Натэллу!
Глаза у него забегали, пальцы суетливо побежали по краю пледа, собирая невидимые крошки, а на губах — вот ведь старый козел! — заиграла похотливая улыбочка.
— Врешь, старая стерва, врешь, чтобы меня напугать! Столько лет прошло, кому это сейчас интересно! Сейчас и не докажешь ничего! Столько лет прошло, ты все врешь, чтобы мне отомстить! Меня всегда женщины любили, всегда!
— Женщины? Это ты девчонку пятнадцати лет женщиной называешь?
— Да она в свои пятнадцать любую взрослую за пояс заткнула бы!
— Ты хоть бы постыдился такое говорить! Скажи спасибо, что я тебя в тюрьму тогда не засадила! Знаешь, что там уголовники с такими, как ты, делают!
— Да я за это уж десять раз отмучился! Мне Бог так за все воздал — никому не пожелаю! Днем и ночью муку мученическую терплю! Да еще ты рядом, ехидна ядовитая! Думаешь, приятно мне на твою рожу изо дня в день любоваться!
— На мою рожу?!! Ты бы, паралитик старый, в зеркало на себя посмотрел! Давно ты, видать, свою рожу не видел!
Она вспомнила, как тогда, в тот ужасный день вошла в комнату — в ту самую комнату! — и увидела его потную мускулистую спину, а под его плечами — лицо Натэллки — жаркое, бесшабашное, растерянное, испуганное собственной смелостью, покрытое испариной, с широко раскрытыми невидящими глазами и прилипшими ко лбу мокрыми прядями волос.
Увидев их, Анна ахнула и выронила из рук бидон с молоком, принесенный с рынка.
Он услышал ее и воровато оглянулся. Она запомнила его взгляд на всю жизнь — он смотрел на нее со смешанным выражением испуга, злорадства, удовольствия и презрения… Чего только не было в этом взгляде! Анна тонко закричала от бессильной злобы, схватила первый попавший под руку предмет, это оказался старый крепкий табурет, и с размаху влепила им, почти не глядя… Потом, много позже, через несколько лет, у него проявилась скрытая травма позвоночника, с которой и начались его бесконечные болезни. Во время частых ссор он кричал ей, что это она его изувечила, а она в ответ — что ему еще мало досталось. А тогда в тот день, он только ойкнул, подскочил, натягивая брюки, и заверещал бабьим голоском:
— Анечка, да ты не то подумала… Анечка, да я тут только, да мы тут только…
А наглая Натэллка неторопливо собрала одежду в охапку и, не думая одеваться, взглянула на нее победно и нахально и не спеша удалилась в соседнюю комнату.
Анна сперва, размазывая по лицу слезы, принялась собирать ее и мужнины вещи — хотела выгнать их из дому, но потом испугалась, что богатые и сильные родственники сотрут ее в порошок, — не уберегла! И ведь действительно не уберегла! Пустила козла в огород! И снова, рыдая, разложила вещи по привычным местам, как будто тем самым можно было вернуть жизнь в привычную колею…
Сейчас Анна вспомнила всю муку, все унижение того лета, и ее захлестнула горячая волна ненависти. Она смотрела на его капризное старческое лицо, на его морщинистые руки в пигментных пятнах, и чувствовала, что ее ненависть убьет или ее, или его. Пусть уж лучше его.
Она стала действовать так, как будто уже не один раз репетировала. Выйдя в соседнюю комнату, она нашла пустой флакон из-под противоастматического аэрозоля и поставила его на тумбочку, возле инвалидного кресла.
— На, вот твое лекарство.
Потом она прошла на кухню, достала из холодильника кусок рыбы, вышла на улицу, убедилась, что ее никто не видит, и подошла к границе с соседским участком.
Соседский кот Черномырка (в последнее время установилась традиция рыжих котов называть Чубайсами, а черных — Черномырдиными), — соседский кот Черномырка безмятежно дремал на крылечке. Запах рыбы достиг его ноздрей, Черномырка сначала повел левым ухом, потом открыл правый глаз. Ему не приснилось — рыба имела место. Он мгновенно стряхнул с себя остатки сна и побежал на запах. Рыбой пахло от соседей. К соседям его никогда не пускали, гоняли неимоверно — у соседа начинался кашель от его, Черномыркиной, шерсти, но теперь соседка явно не возражала против его посещения. Так уж устроена жизнь, день на день не приходится, главное — не упустить свой шанс. И Черномырка его не упустил. Он, как зачарованный, шел на запах рыбы. Запах привел его в соседский дом. Дверь за ним закрылась, но это не играло никакой роли: Черномырка дорвался до вожделенного минтая и стал пожирать его, урча и чавкая.