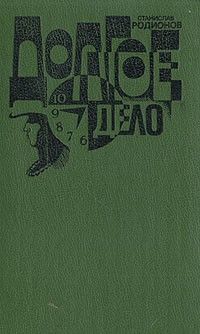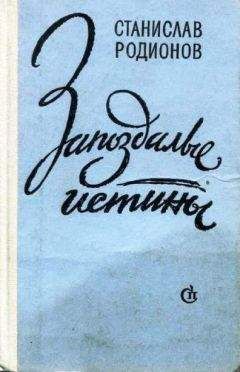Рябинин открыл дверь кабинета, чуть было не сжавшись всеми клетками, словно на него могло что-то упасть. И зло распрямился, хлопнув за собой дверью. Неужели струсил? Ничего плохого ведь не сделал. Сделал, коли сжимаются клетки, чтобы меньше занимать пространства.
За столом громоздко сидел зональный прокурор Андрей Дмитриевич Васин. Он поднял от бумаг крупную голову и взглядом показал на стул. Говорили, что раньше, в первый год работы, он выходил из-за стола и пожимал руку.
— Здравствуйте, — сказал Рябинин, уже сев.
Васин кивнул, закрыл папку и тонковатым для такого плечистого тела голосом спросил:
— Я не очень понял, почему вы не допросили свидетеля. Некогда было?
— Нет, я к ней ездил.
— Врач не разрешил?
— Разрешил.
— Справка в деле есть?
— Есть.
— Тогда почему не допросили?
Рябинин медленно и тайно вздохнул. Есть слова, состояния и мысли не для таких официальных кабинетов. Нет, дело не в кабинете: есть слова, состояния и мысли, которые скажешь и передашь, только уверившись, что их поймут. Рябинин плохо знал этого прокурора, да уже и заметил в его лице лёгкое магазинное любопытство, вызванное заминкой следователя. Но Рябинину было нечего сказать, кроме правды:
— Пожалел.
— Не дошло.
— Пожалел…
Васин смотрел на него умно и проникающе — бывают такие серьёзные глаза, когда человек силится что-то понять, и это усилие придаёт взгляду особую сосредоточенность. В углу кабинета тихо играл приёмник. Моцарт, соль-минорная. Эстрадная музыка не мешала, но работать под классическую Рябинин не смог бы.
— Как же вы работаете следователем? — спросил наконец Васин.
— Не дошло, — легкомысленно вырвалось у Рябинина.
— Как же вы предъявляете обвинение, арестовываете, отдаёте под суд? Не жалеете? — развернул свой вопрос зональный прокурор.
— Иногда жалею, — ответил он вместо «иногда не жалею», потому что чаще всё-таки жалел.
— Но из-за вашей ложной жалости ускользнул преступник!
— Почему же ложной? — тихо спросил Рябинин.
— Потому что вы были добреньким не за свой счёт, а за счёт государства.
Об этом он не подумал — о счёте. Да ведь когда жалеешь, то не думаешь. Может, так ему и сказать: когда жалеешь, то не думаешь? Они с зональным прокурором почти ровесники, а «ровесник» звучит как «единомышленник». Может, ему рассказать про её лицо, про её нездешний взгляд, про её школьницкий локон?..
— Неужели вы не чувствуете своей вины?
— Чувствую, — искренне согласился Рябинин.
Разумом он понимал, что виноват. Но где-то там, под разумом, жила отстранённая мысль о его невиновности. И эта глубинная мысль подсказывала его разуму, что если и стоило упрекать его в жалости, то не так и, может быть, не здесь.
И промелькнуло, исчезая…
…Жалеющий всегда прав…
— Смотрел, Сергей Георгиевич, ваше личное дело, но так и не понял, растущий вы кадр или нет.
— Я врастающий, — буркнул Рябинин.
Васин слушал известную эстрадную песню, одну из тех, которую поют все и везде ровно одну неделю. Моцарта уже не было, — шёл концерт по заявкам.
— Не повышают, — сказал Рябинин то, чего от него ждали.
— А почему? У вас, наверное, трудный характер? — оживился зональный прокурор.
Это почему же трудный? Из-за шутки «Я врастающий»?
— Да, неважный, — горестно согласился Рябинин.
Андрей Дмитриевич облегчённо улыбнулся. Крупный, большеголовый человек с плечами штангиста незримо обвис, как подтаял. И глаза, которые теперь ничего не силились понять, — уже всё понято, — потеряли философскую глубину. Рябинину вдруг показалось, что Васин похож на цветной телевизор, у которого вынули всё электронное нутро и вместо экрана вставили двухпрограммные глаза.
И промелькнуло, исчезая…
…Глупый человек в конечном счёте всегда плохой…
— Беспалов вас хвалит. Но вы недостаточно активны. Не ведёте никакой общественной работы, нигде не учитесь…
— Времени нет, — вяло ответил Рябинин, хотя были у него и другие ответы.
— Времени нет? — удивился прокурор. — У меня тоже нет, но я работаю в местном комитете, редактирую стенную газету, выступаю с правовыми лекциями…
Теперь концерт слушал Рябинин. Кто-то заказал модную песню, и певцы запели её вдруг сильными естественными голосами, отчего звучала она неожиданно и свежо, потому что в мужской песне давно не хватает мужчины, а в женской — женственности.
— Кроме общественной работы я занимаюсь на курсах английского языка для сдачи кандидатского минимума…
В своё время Рябинин поразился, узнав, что самый мирный разговор, даже двух приятелей, есть скрытая борьба. Потом он убеждался в этом не раз; потом он пришёл к мысли, что борьба идёт за руководство в разговоре, за право говорить. Побеждённый слушает. Но он и не боролся — он сразу начал слушать прокурора, который стал победителем без борьбы, по должности.
И промелькнуло, исчезая…
…Если один всё время говорит, а второй всё время слушает, то хороший человек тот, второй, который слушает…
Рябинину вдруг почудилось, как оттуда, из угла, из приёмника, вырвалось что-то жуткое, почти мистическое, которое он ещё не понял разумом, но уже тихо содрогнулся телом, и одновременно с этим пониманием он услышал слова диктора: «По заявке много лет проработавшей за прилавком Веры Михайловны Пленниковой мы включаем в программу старинный романс «Не уезжай ты, мой голубчик». Слушайте, Вера Михайловна, своё любимое произведение».
— И я нахожу время, чтобы сыграть в бильярд…
— А вы находите пять минут, чтобы поплакать? — спросил Рябинин странным, испаряющимся голосом.
— Не дошло.
— Вы когда-нибудь плачете?
— Из-за чего?
— Неужели у вас нет того, из-за чего хотелось бы поплакать?
Глаза Васина раздражённо потемнели.
— А вы плачете? — спросил он, всё более раздражаясь, потому что зря истратил своё время.
Рябинин не ответил, ибо промелькнуло, исчезая…
…Только тот взрослый может заплакать, который много плакал в детстве…
— Сергей Георгиевич, вы свободны. О вашем служебном проступке я доложу прокурору города.
И опять промелькнуло, но так далеко и стремительно, что не осталось и следа.
Из дневника следователя.
Странно и, может быть глупо думать об умершем человеке, которого не знал. Сколько людей умирает… И всё-таки я бесплодно думаю о ней, о себе, о жизни…
Что жизнь у человека одна, что выпала она ему лотерейно, что не повторится ни в пространстве, ни во времени — это понимают многие. Реже понимают другое, и пожалуй, более важное — жизнь человека до обидного коротка. Я это осознал эмпирическим путём ещё в раннем детстве. Испарялось мороженое, стоило его только лизнуть. Исчезала конфета, едва успев освободиться от обёртки. В войну пятьдесят граммов хлеба, данные матерью на обед, таяли во рту быстрее мороженого. Двухчасовое кино укладывалось в минуты. Прогулка кончалась, не успев начаться… И я догадался: если всё хорошее так быстро проходит, то и жизнь пройдёт мгновенно, как интересное кино.
Годы мою догадку подтвердили. Но догадки, мысли, выводы для того и нужны, чтобы принимать решения. Жизнь коротка… И что? Как я должен жить, что мне нужно делать, если жизнь моя так коротка?
Запахи — влажной земли из-под берёз, далёкой сирени, молодой листвы и чужих духов — принесли что-то смутное и неощутимое, бывшее, может быть, в детстве, а может, только в снах. Лиде захотелось удержать это нереальное и щемящее чувство, понять его и запомнить, но оно было где-то в ней и вроде бы где-то в воздухе, вместе с тем запахом сырой земли и далёкой сирени. Поэзия, это поэзия. Есть люди, которые умеют ловить её из воздуха и класть на бумагу, столбиками. Запах берёзы — столбиком? Поэзия — это тоска по тому, чего в жизни нет и никогда не будет.
Лида свернула в узкую сыроватую аллею, затемнённую холмами ворсистых кустов.
Поэзия — это тоска по тому, чего в жизни нет и никогда не будет. Боже, нет и не будет… Да ведь полмесяца назад всё было. Разве поэзия обрывается сразу, а не уходит медленно, как вот этот белоночный июнь? Неужели она просмотрела её ползучий уход, в общем-то пропустила и все белые ночи? Да?
Лида нагнулась, — в эти босоножки всегда закатывается гравий.
У Сергея не было женщины, и он не влюбился. Да? Он не влюбился — он давно и сильно любил. Где-то она читала, что есть мужчины, для которых любовь к работе по силе страсти мало чем отличается от любви к женщине. Такой без любви не умрёт. Боже, но ведь любовь — это когда умираешь…
Может быть, сделаться модной? Мужчины часто противоречивы… Вот Сергей любит женственность. Любит ли? Теперь в моде стервозность. Энергия, нахальство, броскость, брючки, папироса… А почему женственность не в моде! Не потому ли, что женственной быть трудно. Трудно быть мягкой, нежной, доброй… Куда проще надеть джинсы и сунуть в рот сигарету.