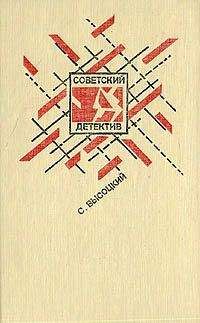«С годами мы не только приобретаем, — думал Корнилов, — но и утрачиваем многое. Приобретаем опыт, знания, характер. Утрачиваем что-то тоже очень важное, утрачиваем особое, не детское, нет, свежее восприятие мира. Между „было“ и „есть“ такая лежит граница, такая преграда, которую перейти невозможно. А наши воспоминания лишены плоти. В них солнце светит, но ты не можешь ощутить его тепла. Видишь заросшее кувшинками озеро, но не слышишь, как всплеснула рыба. Ветер воспоминаний не принесёт с полей запахов свежескошенной травы…
Это прошлое. А будущее?
Ну что же мы можем сказать о своём будущем? Оно тоже без звуков, без запахов, всего лишь плоская умозрительная схема, словно макет нового города, запечатлённый на чёрно-белой фотографии».
…Яростный лай собаки вывел Корнилова из задумчивости. Большой чёрный пёс метался на снегу около дома. «Ну и псина, — подумал он. — Хорошо ещё, что на цепи». Из комнаты сквозь подмороженное окошко глянул мужчина.
Через минуту он уже стоял на крыльце и, прикрикнув на собаку, с интересом поглядывал на приближавшегося Корнилова. Был он крепкого сложения, круглолиц. На голове непокорный вихор рыжеватых волос.
«Вот он какой, Алёха Буйная Головушка», — вспомнив, как назвала Алексея Маричева Полина Степановна, усмехнулся Корнилов. Алёха был в одной тельняшке.
— Здравствуйте, хозяин, — поприветствовал его Игорь Васильевич, остановившись у крыльца.
— И вам здравствуйте, — весело отозвался Маричев. — Вы ко мне? Заходьте, гостем будете.
Ой провёл его через крошечные сени в комнату, предложил раздеться.
Корнилов сел на большую лавку около печки, огляделся. Комната была просторной, светлой, но совсем неубранной, неухоженной. На столе ералаш из грязной посуды, закопчённая кастрюля.
Перехватив взгляд Корнилова, Маричев засмеялся:
— Ох, извиняйте! Приборочку не успел сделать. Не сдогадался, что гость из города пожалует. Своих-то зайцовских не робею…
Продолжая похохатывать, Лёха достал из шкафа новенький пиджак, надел его прямо на тельняшку. Посмотрев на себя в зеркало, поплевал на ладонь и дурашливо пригладил вихры. Потом сел на стул напротив Корнилова и, нагнав на лицо сосредоточенность и строгость, сказал:
— Ну что, товарищ хороший, дело есть?
— Если нет возражений — поговорим?
Ему этот Лёха понравился с первого взгляда. Такие у него были чистые, ничем, не замутнённые голубые глаза с какой-то дьявольской смешинкой, что Корнилов сразу подумал: «Недаром зовут его Лёха Буйная Головушка. Вот уж, наверное, доставил он забот своим родителям. Да и деревенским девчонкам!»
— Я из Ленинграда к вам, из уголовного розыска, — начал Игорь Васильевич.
— Во! Была охота ездить! — неожиданно завопил Маричев и, вскочив со стула, забегал по комнате. — Ну дура баба! Совсем спятила, старая карга! Такую дорогу человека заставила проехать!
— Алексей Павлович! — сказал Корнилов, удивлённо глядя на всполошившегося хозяина. — Чегой-то вы разбегались! Никто меня не заставлял к вам ехать, никто не жаловался на вас.
Лёха моментально смолк и остановился около Корнилова:
— Не жаловались? А Лампадка Маричева, тётка моя, не жаловалась?
— Да не знаю я никакой Лампадки! — пожал плечами Корнилов. — Успокойтесь вы, ради бога. Чем вы ей досадили?
— Ха! Чем? — вздохнул Маричев и снова сел. — Эта Олимпиада — трехнутая совсем. Вам в деревне каждый скажет. Вбила себе в голову, что я у ней осенью все яблоки в саду слямзил. На машине ночью приехал и снял. «Чужой бы кто крал, — говорит, — так Полкан бы залаял. А раз не лаял, значит, Лёха. Боле некому!» А мне эти яблоки — тьфу! Оскомина от них. — Он улыбнулся. — Я их в детстве переел. Сейчас больше огурчики солёные уважаю. А что собака не лаяла — так откуда мне знать? Такая же старая, как тётка. — Он совсем успокоился, махнул рукой, будто отогнал все эти неприятные воспоминания. — Собаки-то меня и правда никогда не трогают. Даже незнакомые. Аж смешно… Вот выдумала Лампадка! Скоро новые яблоки вырастут, а она всё грозится. — И без перехода спросил: — Так вы-то по каковскому делу ко мне?
— Алексей Павлович, вы Тельмана Зотова знали?
— Ну а как же! Знал. Корешили с ним в детстве. Не разлей вода были.
— А когда вы его видели в последний раз?
— И-и! В последний-то раз? — Алексей задумался. — Да, пожалуй, сразу после войны. В конце сорок пятого.
— Говорили с ним?
— Да так… «Жив-здоров Иван Петрович!» Всё на ходу. Встретиться сговорились. Ну и концы в воду… Ведь он теперь художник известный. Знаменит! В деревню нашу не заглядывает. Чего ж я набиваться буду? Приедет — приму как родного.
«Значит, и он не знает, что произошло, — подумал Корнилов. — Может быть, это и хорошо, расскажет всё беспристрастно».
— Алексей Павлович, я вас очень прошу подробно рассказать мне всё, что вы знаете о Тельмане и о его отце. О том, что произошло между ними в первые месяцы войны. Это очень важно…
Маричев пожал плечами:
— Столько времени прошло… — Потом вдруг забеспокоился: — А что случилось? Не секрет? Мужик-то он добрый. Мухи не обидит, не то что я…
Игорь Васильевич положил ему руку на колено и тихо, но настойчиво попросил:
— Расскажите, Алексей Павлович. По порядку… Я вам всё объясню.
— Какой уж там порядок. — Леха как-то странно улыбнулся. — Прямо не знаю, с чего и начать. — Он встал со стула и заходил по комнате.
Корнилов не торопил. Сидел, приглядывался к Маричеву. Ему, видать, уже немало лет — много за сорок, а он подвижный, словно ртуть, энергичный. Удаль чувствуется во всех его движениях, в неспокойных глазах.
Лёха вытащил из шкафа чекушку водки, два стакана. Поставил на стол. Виновато посмотрел на Корнилова:
— Эх, товарищ начальник, как вспомню то время, аж вот тут жжёт. — Он стукнул себя кулаком в грудь. — Не откажитесь! У меня такие огурчики…
Корнилов нерешительно пожал плечами.
Лёха вихрем метнулся в кухню. Там загремели кастрюли, что-то упало, а через минуту он уже ставил на стол тарелку с огурцами, хлебом, толсто нарезанным салом.
— Вы мне только самую малость, — попросил Корнилов, увидев, как решительно взялся за чекушку Маричев.
— Понятно! — весело сказал Алексей. — Это мы понимаем. И что ломаться не стали, за то уважаем.
— Всё в общем-то из-за его имени тогда началось, — сказал Маричев после того, как они выпили. — Назвали Тельманом. Отец и назвал-то. В честь Эрнста Тельмана. Ну, мы, мальчишки, его всё Телем звали. Тель да Тель. Я ведь с Телем в одном классе учился. Корешки, Тель без матери рос. Умерла его матка ещё до войны от какой-то болезни. Вот такие дела… А фрицы пришли, едри их в корень, тут и началось. — Лёха сморщился, будто от зубной боли, и начал со злостью тереть себе затылок. — Да ведь мы и не ждали их так рано! Всё думали — пока сквозь наши леса продерутся! А они туточки. Да ещё не с той стороны, откуда должны были, — от Сиверской припылили. Я с Телем как раз на прогоне, на брёвнах сидел: всё советовались, куда податься. Мой батя служил, а Николка Зотов, Тельмана отец, — хромоножка, его в армию не взяли. Так он никуда уходить из деревни не хотел. Всё баял: не задержатся фрицы до зимы. Ну а мы с Телем хотели в Питер рвануть. Одни…
Сидим. Вдруг на прогон мотоцикл с коляской вылетает. Как дал на тормоз, аж занесло, только пыль столбом. Я гляжу: какие-то странные солдаты, головы будто пришлёпнутые, ну прямо вровень с плечами. Ничего понять не могу, а Тель мне как саданёт в бок. «Немцы, — говорит, — тикаем». Брык с брёвен. Я за ним, да в бузину и напролом. А фрицы чегой-то заорали и с пулемёта садить! Какой кросс мы выдали! Куда там Валерию Борзову! Отсиделись в гумне за деревней. Всё боялись домой возвращаться, думали: а вдруг приметили нас фрицы. А ведь дома и корзинки со жратвой были собраны в дорогу.
К вечеру потихоньку огородами пришли в дом к Телю, а там немцы. Ну, угодили! Дядя Коля в кухне стоял, а рядом офицер. Как сейчас помню, держал он в одной руке бутылку. С вином, наверное, а в другой — тарелку с горячей картошкой. Пар от неё шёл. Мы, как немца увидели, с порога назад. А отец возьми и крикни: «Тельман, сынок!» — Маричев закурил папиросу, глубоко затянулся. — Мы бы удрали, да наткнулись в сенях на солдата.
Привёл он нас в горницу, поставил посередине. А офицер расхаживает по горенке. За половики чепляет. Лицом-то добрый, улыбается. И шпарит по-русски. «Вы, — говорит, — мальчики или зайчики?» Шкура! «Зачем, — говорит, — так быстро бегаете, боитесь немецкого офицера?»
Мы стоим сопим. Ну прямо как во сне! Свалился этот шпендрик на нашу голову! Хоть и ждали, а всё же поверить было трудно.
Дядя Коля тут же стоит. Бледнющий — лица на нём нет. А немец говорит: «Кого это из вас Тельманом зовут? Или мне послышалось?» Дядя Коля тихо отвечает: «Послышалось, господин офицер. Сынка моего Тишей звать». Быстро он, однако, его в господина произвёл.