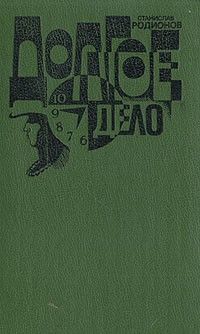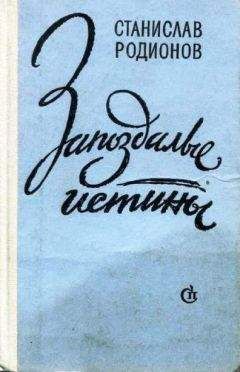Всё-таки Калязина опять ушла от правосудия. Пока нет доказательств. И всё-таки она неумная.
Я всё больше убеждаюсь, что нет людей плохих — есть люди неумные. И всё больше прихожу к мысли, что умная личность всегда добра. Когда слышу, что такой-то умён, но плохой человек, я уже знаю, какие качества приняли за его ум: способности, или хитрость, или знания… Но только не ум! Ум — явление социальное и положительное. Он понимает в жизни те сокровенные тайны… Пусть не понимает — их, может быть, и самому умному не понять, — но хотя бы догадывается, хоть чувствует, и уже это делает его добрым. Ибо, прикоснувшись мыслью, допустим, к тайне смерти, как потом можно ненавидеть какого-нибудь человека, может быть, того самого, к которому завтра эта тайна прикоснётся уже не мыслью, а своим подвальным холодом? Да жалеть нужно его, их, людей. А всякая доброта из жалости.
Поэтому я всё больше убеждаюсь, что нет людей плохих — есть люди неумные. Всем плохим, что есть в человеке, он обязан собственной глупости. Или так: всем плохим в себе человек обязан глупости. Ну прямо афоризм.
Добровольная исповедь.
Если бог меня не убережёт и ваши старания, товарищи правоведы, увенчаются успехом, прошу эту исповедь приложить к протоколу допроса. Я знаю, как вы допрашиваете. Теперешним следователям не до исповедей, вы не Кони и не Плевако. А у преступников всех времён и народов есть одно желание — выговориться, чтобы его поняли. Не думаю, чтобы на юридическом факультете был семинар на тему «Исповедь преступника». Поэтому и пишу.
На коленях Петельникова лежала не то сумка, не то портфель без ручки, не то громадный бумажник из тёмно-кремовой кожи с десятком молний, секущих её вдоль и поперёк.
— Из крокодиловой. — Инспектор перехватил его взгляд.
— Не зелёная же, — усомнился Рябинин.
— Крокодил пожилой.
— Интересно, что может лежать в такой шикарной сумке?
— Доносы, анонимки, подмётные письма… Света понравилась Лиде?
— Говорит, что хорошая девочка.
Лишь бы не выдать, что Лида с ним уже не говорит, кроме необходимых в быту слов, окатанных и холодных, как утренняя галька. Рябинин сжал губы и посмотрел на Петельникова с напускной весёлостью. Губы, глаза и слова не выдадут, да вот пишут в романах, что темнеет лицо…
— А тебе она как? — Этот вопрос инспектор задал другим тоном и с другим интересом — не о человеке, не о внешности, не об одежде. Он спрашивал о её показаниях.
— Тут надо подумать, — лениво сказал Рябинин.
— Давай подумаем, — уж совсем вяло согласился инспектор.
Они давно обо всём передумали и теперь хотели сопоставить свои догадки.
— Нам бы найти свидетеля, — начал издалека Рябинин.
— Продавцы ничего не видели. — Инспектор отвёл себе роль человека, который сомневается.
— Но магазин был полон людей.
— Нам неизвестных.
— А вот Светлана Пленникова рассказала, что одна женщина примеривала аметистовые бусы.
— Там многие примеривали кольца.
— Но эта женщина стояла рядом и могла видеть преступницу.
— Могла, да ведь где взять эту женщину?
— Надо думать, — предложил следователь.
— Надо, — согласился инспектор.
Рябинину вдруг пришла странная и страшная мысль… Таила бы Лида непостижимую для него злость, имей он чёрные и большие глаза, прямой нос, мужской подбородок, высокий рост — как у Петельникова. Имей он такой же открытый взгляд, физическую силу и небрежную манеру говорить… Никого не бояться и всем нравиться… И будь у него такие же вельветовые брюки.
— Они бы на мне сидели, как на чемодане, — сообщил Рябинин.
— Кто?
— Я хочу сказать, что бусы-то она не купила, — хмуро ответил следователь, ещё не отпущенный странной и страшной мыслью.
— Можно сшить на заказ, — посоветовал инспектор.
— Кого?
— Я хочу сказать, что у неё не было с собой денег.
— И женщина пошла в сберкассу, а это хорошо.
— Угу, — согласился Петельников, — ей хорошо, поскольку скопила деньжат.
— Нам хорошо, только стоит подумать.
— Будем думать.
Но промелькнуло, исчезая…
…Следователь — это человек, который идёт по следу…
И тут же, за какой-то банальностью о следах, промелькнуло верное и главное…
…Следователь — это человек, который ищет истину…
Рябинин поправил очки. Надо бы протереть. Не грузит камни и не лопатит на току пшеницу, а пыль на них оседает, как с потолка сыплется.
— Тебе надо бы сменить оправу, — сказал инспектор.
— Допустим, ты женщина…
Петельников закатил глаза и сделал губки:
— И я примериваю аметистовые бусы, которые хочу купить, а денег с собой нет.
— Что же вы пришли за бусами без денег? — строго поинтересовался Рябинин.
— Если бы я шла в магазин намерение, я бы деньги взяла.
— А как вы шли?
— Господи, следователь, а такой бестолковый, — всплеснула руками дама-Петельников. — Как люди заходят в магазины? По пути, случайно.
— А куда же вы шли?
— По делам. Купить причёску, сделать кефир… То есть наоборот.
— Выходит, вы недалеко живёте?
— Неужели бы я приехала за кефиром из другого района?
— Выходит, что и деньги храните в ближайшей сберкассе?
— Под рукой-то удобнее. Но, гражданин следователь, я могла приехать к подруге из другого района, а деньги хранить где-нибудь около своей работы…
— Конечно, — согласился Рябинин, — но первое предположение вернее. Итак, ближайшая к магазину сберкасса, шестнадцатое июня, взята сумма не менее шестисот рублей, вкладчик — женщина…
Петельников виртуозно перечеркнул сумку бесшумной молнией. Из её тайного отделения вынырнула бумага, которая легла перед следователем.
— Подметно-анонимный донос, — объяснил Петельников.
Это был перечень сберкасс — пять штук. Ближайших.
Рябинин в упор и почти зло посмотрел на коллегу. Инспектор ответил невинным взглядом и сжатыми губами, через которые всё-таки просачивалась улыбка.
— Зачем же этот разговор? — упрекнул Рябинин.
— Идею проверял и себя.
— Ты бы лучше Калязину проверил.
— Изучаем её связи, образ жизни, материальный достаток…
— Ну, и какой у неё достаток?
— У неё за обедом на каждой кильке лежит своя тюлька.
Из дневника следователя.
Труд и смысл, смысл и труд… Сегодня разговорился с понятой: сорок лет, хорошая работница, высокий заработок, одинокая. Спрашиваю, что она делает после работы. Ходит в магазин. Ужинает. Убирает. Ну, а выходные дни? «В выходные дни я фотографируюсь…» И я понял, что она живёт работой и только на работе. Хорошо? Хорошо. Только есть вопрос ей, себе, всем: что же такое человек — уж не машина ли по производству и потреблению материальных благ?
Добровольная исповедь.
Оговорюсь сразу — ничего не совершала и ни в чём не признаюсь. Моя исповедь о другом, о жизни и о её философии.
Начну с начала, то есть с детства, ибо у меня есть афоризм: расскажи мне о своём детстве, и я расскажу о твоей взрослой жизни. У меня была благополучная семья. Солидный папа, серьёзный, неулыбчивый, с вечным и тяжёлым портфелем. Мама кормила меня, кормила папу и принимала гостей. Самое яркое и постоянное впечатление моего детства — я стою на диване и читаю стихи. «Идёт бычок, качается…» Мама умиляется, папа улыбается, бычок качается, а гости мрут от скуки. Убеждена, что вот такое всеобщее внимание делает из крохи эгоцентрика-людоеда, и на всю жизнь. А я так выступала перед гостями каждую субботу…
В обеденный перерыв Викентий Викентьевич, директор магазина «Дуб», провёл с продавцами обсуждение газетного фельетона под названием «Липовые гарнитуры». Писали о магазине «Карельская берёза». Собрание получилось шумным и почему-то весёлым — наверное, оттого, что критиковали не их магазин.
С директором «Карельской берёзы» у Викентия Викентьевича были, пожалуй, дружественные отношения, и после встреч в управлении они частенько вместе обедали. Сейчас тому не до обедов: звонят телефоны, вызывают в управление, ухмыляются покупатели…
Викентий Викентьевич, тоже сегодня не обедавший, достал из портфеля термос с кофе и полиэтиленовый мешочек с бутербродами. Он намеревался отвинтить крышку, но увидел в мешочке солнечную красноту — помидор с юга, припасённый для него женой. Рука уже коснулась прохладной и тугощёкой кожи, когда зазвонил телефон…
— Викентий Викентьевич? — спросил знакомый и торопливый голос.
— А-а, Михаил Давыдыч, — узнал он лёгкого на помине директора «Карельской берёзы». — Переживаете?
— Хуже, чем переживаю…