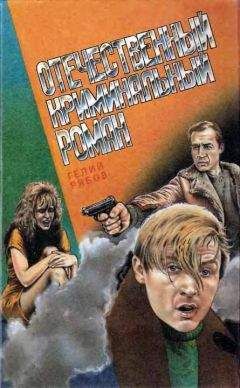— Это нужно не только нам… — Голос его дрожит. — Это нужно будущим поколениям. Убежден, что Русская церковь со временем откликнется на нашу просьбу и канонизирует погибших.
— Начнем весной, как только позволит погода. — Соколов поклонился в пояс: — Боже, царя храни, ваше высокопревосходительство…
И снова дьявольщина: а не похоже ли это все на дурно разыгранный театр?
Но они были так искренни…
Они — да. Но ведь я усомнился. Прости меня, Господи…
АРВИД АЗИНЬШ
Нас снова преследуют неудачи, потому что мы расхлябанны и неумелы, но товарищ Ленин выздоровел окончательно и наведет порядок железной революционной рукой. А пока мы читаем приказ: «25-го декабря 1918 года 3-я армия Восточного фронта сдала без боя город Пермь. Это произошло в результате беспорядочного отступления: в течение 20-ти дней армия пробежала 300 позорных верст, потери составляют 18 тысяч бойцов, десятки орудий, сотни пулеметов. Непроверенному красноармейцу Медведеву доверили взорвать мост через Каму, чего он не сделал и, видимо, сдался врагу…»
Фронт прорван, от Шорина прискакал ординарец — белые могут нагрянуть со стороны Толовки, там Тулин с ротой и двумя пулеметами; поедал к нему Фрица с приказом: стоять до смерти.
Мой поезд на станции, ночь; жизнь и время дали нам короткую передышку, и нужно спать, но никто не спит. Новожилов бренчит на своем инструменте «Шарф голубой» (он его в последнее время наигрывает днем и ночью), новый писарь Серафим Пытин (он служил в Екатеринбурге в охране бывшего царя) рассказывает нам, раскрывшим от удивления рты, как пришлось познакомиться ему с Николаем Вторым… «Конечно, ожидание было большое, все же — не шавка, царь, ну — подкатывает авто…» — «Да их на телеге вонючей надо было!» — это Татлин, с сердцем и злостью, но писаря так просто не проймешь. Он уверен в своем: «Возможно, комиссар. Только им дали замечательный особняк, прогулки, обеды из столовки Совета. А царь — так себе. Мятый, скукоженный, вроде сторожа у водокачки… Протянул мне руку — здравствуйте, мол, как поживаете…» — «А вы ему в его поганую рожу — харк!» — это Новожилов перестал играть к смотрит насмешливо и отчужденно. «Ты, Новожилов, издеваешься, поскольку не в состоянии преодолеть своего офицерства, а я уверен, что товарищ так и поступил!» — Комиссар весь в ожидании — что ответит Пытин. Куда там… «Я ему тоже руку подал, честь по чести, культура — прежде всего, и говорю: Николай Александрович, сами во всем виноваты!» — «Да тебя, лакея, под расстрел!» — «А за что? За то, что я поверженного, брошенного наземь топтать не стал? Не о том разговор, товарищ комиссар…»
Здесь он подошел к Вере и взял ее за руку: «А вы, Вера Юрьевна, меня, вижу, совсем и не вспушите? Выже с сестрицей приезжали к нам в завод, в Тагил Нижний, а? Где Надежда Юрьевна? Как она?».
Вера сделалась белого цвета: «Хорошо, что спросили при товарищах. Так вот, чтобы ни у кого не было сомнений: сестра моя Надежда Юрьевна. Руднева изменила революции и вышла замуж за отъявленного белогвардейца. Я разговаривала с ней. Взгляды ее тоже изменились. Она теперь белее белого, поэтому у меня больше нет сестры. Я об этом послала заметку в „Известия“ ВЦИК с просьбой опубликовать во всеобщее сведение».
— Бывает. — Пытин отошел ж своему столу и начал перебирать бумаги. — Бывает, что человек меняет или пересматривает свои взгляды. Он это делает, как правило, под влиянием и воздействием каких-то людей, мнений, разговоров… Кто в этом виноват? У меня вот тоже большое сомнение в душе — может быть, даже и преступление… Я хочу вам о нем рассказать и облегчить душу. И я рассчитываю на ваше понимание и сочувствие…
НИКОЛАЙ НОВОЖИЛОВ
…Я перестал играть и закрыл крышку клавикорда, — мне было очень интересно — в чем это он провинился… Но рассказать он не успел — ударили выстрелы, полетели стекла, начался бой. Никогда еще я не видел, как дырявят пули стену прямо над головой… Мгновение, и словно ты лежишь в теплой ванне, а сверху опускается душ — и дырочки в нем все больше и больше… И это завораживает и даже усыпляет. Тяжелая схватка — впервые в дело пошли повара, телеграфисты и даже сестры милосердия.
Атака отбита, дальше поезда они не прошли, но вина Тулина очевидна. Азиньш потребовал коней и помчался выяснять. Это весьма интересно…
Обнаружилась гнусная подробность: в соседнюю деревню явился карательный отряд (крестьяне отказались дать фуражирам продовольствие), всех женщин согнали в избу председателя комбеда (как назло, он только что отобрал ее у самого богатого мужика), старух выгнали, а всех остальных изнасиловали на глазах у мужей. Потом предкомбеда отрубили правую руку (якобы офицер сказал при этом: «Чтоб больше не смог своих бумажек поганых подписывать»), деревню подожгли с четырех сторон, и сгорели в муках адских все старики и старухи. Разумеется, и малые дети тоже. Зверство и ужас, и нет слов… Оставшиеся в живых мужики успели добежать до Тулина, и ему бы, дураку, оставить на месте хоть человек двадцать с пулеметом — они бы не пропустили белых, но гнев затмил, помчались в деревню. Она уже сгорела, карательный отряд с трудом выравнивал ряды (были в стельку пьяны) и серьезного сопротивления не оказал. В плен попали два офицера и два солдата, остальных перебили.
И вот теперь Азиньш решил учинить революционный суд. В его решении я не сомневался, пленных казнят, но то, что придумал Азиньш, повергло меня в безысходное отчаяние. «Обрубить им руки, привязать каждому к туловищу и отпустить. Пусть вся белая сволочь содрогнется и поймет: пощады ей ждать не приходится…» Все закричали «ура».
Новый писарь подошел ко мне: «Остановите его». — «Это невозможно. — Я даже руками развел от бессилия. — Вы попросите Рудневу, он ее… любит и, может быть, послушает». Тем временем принесли острый плотничий топор (лезвие заточено — как меч самурая), приволокли пень (где только взяли? Видимо, человек для сладкой своей жестокости готов совершить чудеса предприимчивости), связанные офицеры стояли хмуро, молча, один попросил закурить, ему в рот кто-то сунул недокуренную цигарку, солдаты хором пели нечто вроде предсмертного псалма, все это производило впечатление жутковатого балагана. «Вера Юрьевна, в память вашего батюшки, интеллигентного человека и рабочего пропагандиста, прошу: уговорите начдива не делать подлости». Я стоял рядом и слышал все. Она резанула Пытина ненавистным взглядом: «Именно в память; отца — так тому и быть!» Удивительно… Писарь отскочил от нее, как от гадюки — и к Азиньшу: «Ты краском, а не палач!» — «А они? Им можно?!» — орал, срываясь на визг. «Они за ту Россию, в которой четвертовали и колесовали, а ты — за ту, в которой смертная казнь будет отменена навсегда! Иначе за что мы боремся? Остановись, ты грязнишь революцию!» — «Христосик…»
Что же будет? Все замерли (театр восковых фигур), в груди холодок. Но как бы он сейчас ни поступил — у меня уже есть решение. Такая революция мне не нужна. Да и вообще: Вера не любит меня, так не все ли равно, что делать и как жить…
Азиньш приказал всех повесить. Красные (отныне они для меня только «красные») отвратительные каты. Каратели дергались на веревках долго, очень долго. Где-то я читал, что до революции на виселице убивали мгновенно. Но теперь иные времена, потому что восстал брат на брата и сын на отца, и проклял Бог Россию. Они у скакали, ушли, на меня никто не обратил внимания. Я дождался темноты, влез на перекладину и срезал веревки. Потом вынул у погибших документы. Могилу рыл ножом часа четыре (промерзла земля). Положил их. Что ж… Они палачи собственного народа, но она люда и имеют право на то, чтобы их похоронили. Наверное, они были убеждены, что вернуть народ в прежнее состояние, привести к повиновению иными средствами невозможно. Каждый действует теми методами, которые находит. Это истина бытия.
Как буду действовать я — ни белый, ни красный? Белым не был — из развалившейся армии ушел в никуда, красным не стал — не принял их идеологии. Да и конечных целей тоже: меня влекла Вера, и я бездумно шел за ней. Теперь ее нет больше, и я свободен. Адьё.
…В поезд вернулся на несколько минут — я должен освободить душу, сделать нечто странное и глупое, может быть… Веры в купе нет, и я кладу ей под подушку прозрачный голубой шарф. Прощай, Вера. Прощай навсегда.
АЛЕКСЕИ ДЕБОЛЬЦОВ
Вчера я повел Надю в Никольскую церковь, мы молились там. Я смотрел на ее лицо, оно прекрасно, когда же она разговаривает с Богом — становится еще прекраснее… Пусть мир и любовь снизойдут на ее мятущуюся душу, и мне тоже надобно успокоиться, прийти в себя. Начались эксцессы, я понимаю, любая власть чревата ими, но так хотелось, чтобы мы были властью от Бога, так хотелось… Говорил, советовал, упрашивал и доказывал: господа, остерегайтесь мщения, не пачкайте душу живую, мы с вами христиане. Со мной соглашались, меня поддерживали, было решено обратиться к Верховному с просьбой отменить смертную казнь на нашей территории в назидание нашим противникам и потомкам. Я подготовил текст, уведомил Верховного, он согласился рассмотреть — и вдруг…