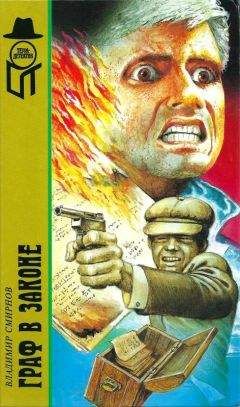Потапов: Вы знаете, что у Николая Николаевича есть сын?
Чугуев: Знаю. Мне Глафира Николаевна сказала.
Потапов: Когда?
Чугуев: Точно не помню.
Потапов: Она собиралась его навестить?
Чугуев: Да.
Потапов: У нее был домашний адрес племянника?
Чугуев: Был, она узнала его в справочном бюро.
Потапов: И ездила к нему?
Чугуев: Этого я не знаю.
Снова выключен магнитофон. Снова загадочная улыбка на лице Потапыча.
— Зачем она узнавала адрес племянника, если не собиралась туда ехать?
— Ты уверен, что она не ездила?
— Не ездила.
— Может быть, она не для себя искала этот адрес? — предположила девушка.
— Интересный вопрос. Запомним, — ответил Потапыч. — Теперь слушайте дальше…
Потапов: Как вы относились к профессору Стельмаху?
Чугуев: С огромной завистью. Таким из-за своей трусости я никогда не стану.
Потапов: У него были враги?
Чугуев: Все руководство института — это раз. Все ординарные ученые — это два. Все подхалимы — три. В итоге — тьма.
Потапов: Ну а самые непримиримые?
Чугуев: Вам фамилии нужны? Пожалуйста — Коврунов. Между прочим, его не любил и Николай Николаевич. В этом я с ним был солидарен. Даже наглая дерзость должна быть в разумных пределах. Стельмах этих пределов не знал.
Потапов: Вы знаете, что Стельмах был отравлен?
Чугуев: Да. От Глафиры Николаевны.
(«Все знает эта Глафира Николаевна!» — раздраженно прошептал Потапыч. Сергей: «Что тут необычного? Ей Коврунов сказал».)
Потапов: Кто мог, по-вашему, это сделать?
Чугуев: Вот уж здесь заявляю официально: мерзавцы, рвачи, доносчики, развратники, карьеристы — все есть в нашем институте, а убийц — нет! Поймите вы, работники милиции, это не наша специальность, мы занимаемся святой наукой — математикой. Мы свои руки не то что кровью — чернилами запачкаем, тут же бежим к водопроводному крану, чтобы отмыть.
Потапыч остановил магнитофонную запись, начал прокручивать пленку.
— Ругань пошла, — сказал он сердито. — Коврунова назвал тупоголовым карьеристом, Алябина — высокомерным Нарциссом… Больше всех мне досталось… В общем, раздал братьям по лаптям… Здесь должно быть о машине.
Чугуев: Да, есть… серая…
Потапов: Часто вы на ней ездите?
Чугуев: Последние два года она стоит в гараже… Рессоры сменить надо… Все некогда…
Потапов: Номерные знаки с машины не снимали?
Чугуев: С какой стати?
Потапов: За городом видели серую «Волгу» с вашим номером.
Чугуев: Ошиблись ваши работники. На моей далеко не уедешь. Рессора висит, землю пашет…
Потапов: Есть еще у кого-нибудь ключи от вашего гаража?
Чугуев: Только у меня.
Потапов: Где они находятся?
Чугуев: Дома. В ящике комода.
Потапыч выключил магнитофон, сказал устало:
— Все. Дальше пустые словопрения… То, что сказал Чугуев, надо перепроверять. Ведь кто-то открыл его гараж… Кто-то заправил машину водой, бензином… А потом, возможно, увидев, что она неисправна, снял номерные знаки и теперь пользуется ими…
— Подожди, Потапыч, — с необычной для себя властностью произнес Сергей. — Мы с тобой… — он повернулся к девушке, добавил, поумерив решительность, — и с тобой тоже суматошно, зигзагами бегаем от факта к факту… И все в кругу знакомых. А если здесь действовал другой, неизвестный нам человек?.. Вспомни хотя бы историю со сброшенным на меня камнем. Тут есть неясности. Первая. Журналы унес не тот, кто бросил камень, — до прихода Потапыча из дома никого не выпускали, — а тот, кто был во дворе. Глафира Николаевна, по моим данным, из квартиры не выходила. Получается, у подъезда был третий, кто и подобрал журналы… Вторая. Куда удрал другой, который бросил камень?.. Ты Потапыч, трижды обошел квартиры… Всех теперь в лицо и по именам знаешь. А в квартиру Климовых заходил?
— Конечно… По телефону звонил, возле тебя был, на кухне…
— В другие комнаты заглядывал?
Потапыч громко застонал, потом чуть-чуть не выругался, но успел зажать ладонью рот.
— Нет! И в голову не пришло! Бог ты мой, он мог там отсидеться до конца тревоги… Отчаянный парень!
— Я бы сказал: умный и хладнокровный. Представляешь, как все психологически тонко продумано: кто будет обыскивать квартиру, куда принесли раненого?..
Девушка восхищенно глянула на Сергея.
— Значит, все-таки Чугуев?
— Не знаю, — улыбнулся Сергей. — Надо еще определить, какой из Чугуевых? Которого мы с тобой видели в машине или которого допрашивал Потапыч?
— Да-а! — громко и весомо, как бы собираясь подвести итоги, произнес Потапыч. — Наглец этот господин Некто. Большой наглец… И скользкий, как налим… Ну ладно! — Последняя фраза прозвучала угрожающе. Глаза Потапыча сузились в щелочки, на скулах заходили желваки. — Я вот что думаю… — Он вертел в широких ладонях чашку, точно хотел скрутить ее в тонкую трубочку.
Было заметно, что Потапыч сдерживает нарастающую ярость, от этого и речь его была обрывиста и зла.
— Еще чаю, майор? — девушка осторожно извлекла из могучих объятий хрупкую чашечку.
— Нет, спасибо. Мне надо идти. — Он поднялся, — Завтра, Сергей, тебе будут представлены все данные о Глафире…
— А я тебе доложу о Климове-сыне. Это самая загадочная фигура в нашем деле. Он знает гораздо больше, чем рассказал… Завтра еду к нему…
— Договорились, — сказал Потапыч.
Был тот таинственный синий час, когда день еще не перешел в ночь, а ночь уже висела над городом. Они ужинали вдвоем на кухне, обменивались редкими, короткими фразами («какая красивая ложечка…», «вкусно…», «соль возле тебя», «еще положить?», «не надо, я сама…»), старались не смотреть друг на друга. Уже что-то произошло между ними, и это «что-то» отделяло их, вызывая смущение, робость… Это было то чувственно-прекрасное начало, когда за неловкостью и скованностью уже таится волнующее, почти пророческое предчувствие.
— Ложись спать! — сказала она сухо. — Ты устал…
— Да нет… — ответил он, но покорно вышел из кухни, разделся и лег под одеяло.
Глаза закрыл, но чутко прислушивался к шуму воды, к сердитому перестуку тарелок, к глухим, как отрывистые вздохи, движениям посудных ящиков. И вдруг все стихло! Потянулось гнетущее безмолвие. Он даже вздрогнул от неожиданности, когда услышал вкрадчивый, прерывистый шелест ее пухлых тапочек. Щелкнул выключатель… И снова прерывистый шелест, ближе, ближе… Шепот над головой:
— Ты спишь?
— Нет.
Он весь сжался, как перед прыжком через глубокий ров. В груди похолодело, в висках бурно застучала кровь… Казалось, все вокруг застыло в невыносимо долгом ожидании.
Она змеино-упругим движением скользнула под одеяло, обожгла горячим бедром. Податливые губы коснулись его щеки, и все рассудочное, что было в нем, смял, развеял, вытеснил бестолковый вихрь чувств, а притаившиеся инстинкты ожили вдруг в своем зверино-сладостном, безумном торжестве.
Проснулся с ощущением приятной расслабленности и возрождавшейся силы. Чуть повернул голову — она смотрела вверх, а на ее губах дрожала странная улыбка, отрешенная от земных искушений и забот, точно она улыбалась своей судьбе. Ему припомнилось все, и от этого стало жарко, весело, сладко.
— О чем ты думаешь? — Хотелось услышать ее голос, убедиться, что она не придумана его издерганным воображением.
— О тебе. — И ответила она не ему, а все той же доброй судьбе. — Откуда ты явился, мой прекрасный сильный мужчина?.. Кто ты?
Он чувствовал, что она обращается не к нему, но все же ответил:
— Если бы я знал… Каждый размышляет об этом всю свою жизнь и уходит, так и не осознав, кем он был на этой земле…
Она медленно подняла руки, вытянула их над головой, словно пробуждаясь от летаргического сна.
— Неправда. Я знаю, зачем родилась… Чтобы встретить настоящего мужчину и родить сына, похожего на этого мужчину…
— И все?
— И все! В этом смысл женского счастья… А то, что пишут философы, пафосно изрекают эмансипированные интеллектуалки, всего лишь словесный туман, которым стараются, как одеждой, прикрыть голую бабью правду…
Она повернулась к нему, прижалась всем телом.
— Знаешь, какая книга произвела на меня незабываемое впечатление? Никогда не догадаешься! «Житие протопопа Аввакума»… Где-то в душе я верующая… Но сейчас важно не это… Когда спорят о жизни, о ее смысле, я всегда молчу, а про себя вспоминаю один эпизод из той книги… Брели они по глубоким сибирским снегам, мятежный протопоп и его верная протопопица. Аввакум рассказывает: «Я пришел, она меня, бедная, пеняет, говоря: „Долго ли муки сия, протопоп, будет?“» И я говорю: «Марковна, до самыя смерти». Она же, вздохнув, ответила: «Добро, Петрович, еще побредем…» Я встретила тебя в электричке и уже ничего не ждала — только твоего звонка… А ты не звонил… Как мне было тяжело — никто этого никогда не узнает… — Она ткнулась лицом в его грудь, зашептала только ему одному: — А теперь я самая счастливая на этом свете… Будет трудно, смирюсь, скажу тебе: «Добро, Сережа, еще побредем…»