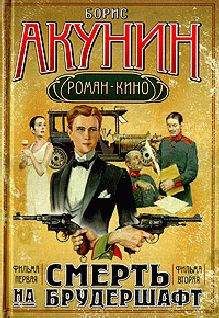– Что с тобой? – тронул ее щеку Михаил Иосифович. – Она была тебе близка?
– Да как тебе сказать... – задумалась Гортензия. – Мы дружили, да... Но она всегда была мне в тягость. Мне больно было на нее смотреть – представь себе несчастную дурнушку с кривыми ногами. И смотрела на меня как... как на воровку. Думала, наверное, что я забрала часть ее красоты. И не только у нее. У многих, таких, как она.
– Ты, конечно, должна погрустить... Но помни, жизнь несправедлива по определению. Я давно понял, что некоторых людей Бог выбирает. Таких, как ты, как я, и как Даша. Выбирает и разводит по полюсам. Одни всю жизнь страдают, для других она – дом родной...
– А почему так?
– Почему? Мне кажется, это просто. Богу нужны люди, которые строят храмы, и нужны люди, которые в них ходят.
– В библии написано, что богатому, так же трудно попасть в рай, как верблюду пролезть сквозь игольное ушко...
– Пустое! Божий популизм. Он ведь тоже политик. Думаешь, просто руководить такой разнородной оравой, как мы? Конечно нет. А святые книги писаны для большинства людей. Ты знаешь, как "Московский Комсомолец" стал первой газетой страны? Очень просто. Как-то, еще при Советской власти, но перед перестройкой, главный редактор газеты, провел опрос, и выяснилось, что средний читатель "Московского Комсомольца" – это женатый мужчина, с незаконченным высшим образованием, у него полтора ребенка и он работает или работал таксистом. Изучив эти данные, главный редактор собрал редколлегию, журналистов и категорически потребовал, чтобы все статьи писались для этого среднестатистического читателя. Отсюда и успех. Так и святые книги писались для среднестатистического верующего...
– Ты умен... – сказала Гортензия, думая о другом.
– Знаешь, я все ждал, пока ты полностью вернешься. И вот, ты вернулась... Теперь мне ничего не нужно... Ни эти бумаги, ни лишние колье. Иди ко мне, моя милая...
Горти расцвела. Норковая шубка сама упала с ее плеч.
Лихоносов очнулся от холода и увидел, что лежит на диване, скорее всего, в дачном доме. Да, в том самом дачном доме. На нем был синий спортивный костюм с белыми полосками; серое байковое одеяло, которым он укрывался, сползло на пол и опрокинуло бутылку "Агдама". На нее он рассчитывал.
"Опять придется что-то продавать... Ненавижу продавать, – подумал он, морщась от нестерпимой головной боли. – Что продавать? Не мебель ведь тащить. Однако придется. А к кому тащить? Дачники разъехались. Странно, однако, – удивился он в который раз, – с весны живу, а хозяев нет. Хозяйки... В этом доме отродясь не было мужчины. Умерла, что ли? Ну и хорошо. Значит, Бог взял ее к себе. Потому что была одинока и несчастна. Бог взял, она умерла, и тела похоронить некому, и наследовать некому".
Лихоносов встал. Боль в голове уменьшилась. "Давление, небось, под двести. Помру скоро от инсульта. И сгнию здесь. Ну и пусть. Мне запаха не слышать. Полежу, парализованный, с недельку, подумаю всласть о жизни, и помру тихонечко. Так мне и надо... Кстати, судя по снегу – во дворе ранняя зима... А двадцать первого декабря день рождения. Пусть сегодня будет двадцать первое. И потому надо выпить".
Лихоносов подобрался к столу и увидел на нем деньги.
Он не взял их, не стал считать.
Он смотрел на них.
Они что-то ему напомнили. Давным-давно они уже лежали там. Это было неправда, но они лежали. Три тысячи.
Лихоносов пересчитал деньги. Их было три тысячи. Он увидел лицо женщины, которой эти деньги принадлежали. Смутное лицо. Какое-то особенное лицо. В нем что-то было.
"Если я сейчас пойду за вином, то ничего не вспомню".
Лихоносов заплакал. Ему хотелось пойти за вином и хотелось вспомнить женщину. И он заплакал из-за того, что знал, что не будет вспоминать, а пойдет за вином и все потом забудет.
Слезы помогли. Лихоносов лег на диван, на спину, и попытался вспомнить женщину. И увидел, что она красива. Очень красива. Нет, не красива, скорее, наоборот. Да, некрасива.
"Что бы ты сделал, если бы хозяйка этого дома была красивой? – задался он вопросом. И ответил: – вылетел бы, как из пушки, она бы меня в момент выставила. А если была уродиной? Я бы предложил ей стать красавицей. На какие шиши? Предложил бы продать все, что есть. Сказал бы: "То, что есть, не имеет никакой цены. Ценно то, что будет". И она бы согласилась. Женщины за красоту готовы отдать все.
И что потом? Потом я сделал бы из нее Женщину и влюбился. Женщину лучше Лоры. Назло Лоре бы сделал. Потом бы она со мной спала в благодарность. Спала бы, спала, как Лора, а потом нашла бы богатенького буратино и стала бы спать с ним. Я бы сделал ее сексуальной... А как ее звали? Нина? Вера? Нет, не вспомнить... Там, на кухне, в ящике стола были, кажется, письма..."
Лихоносов с трудом встал, пошел на кухню, достал письма. Все они были посланы из села Кривцы Моршанского района на имя Дарьи Павловны Сапрыкиной.
И он все вспомнил. Вспомнил, как два или три дня назад, а может, и вчера, да вчера, в дом пришел участковый и пообещал закрыть его, Лихоносова, на три года за грабеж и незаконный захват частной собственности. Когда он испугался быть козлом, участковый сказал, что хозяйка дачи в апреле умерла, и есть варианты. Потом, пристально посмотрев обещающим взглядом, предложил Лихоносову выступить в качестве владельца дачи и участка, когда он приведет покупателя. И обещал за подписи и лояльность три тысячи рублей.
Вот откуда эти деньги! Значит, он подписал и, значит, никакой женщины не было, и никого он не оперировал. А может, и была, но в другой жизни. То есть в другой дискете.
Сунув деньги в карман спортивных брюк, они накинул синее женское пальто с золотыми пуговицами, висевшее в прихожей на гвоздике и вышел из дома. Пройдя по дорожке несколько шагов, вдруг обнаружил, что идет по следам.
Свои следы он определил сразу. Кто-то его тащил в дом за ноги, тащил от поленицы, у которой он лежал. Еще были следы дорогих мужских ботинок ручной работы – Лихоносов знал толк в обуви. И эти следы. Каблучок в иголочку, чуть задранный носок. Эти туфельки ходили по его сердцу. Эти ножки.
Лихоносов чихнул – ведь два часа пролежал на снегу – и вспомнил странное имя. Или прозвище.
Он вспомнил имя или прозвище Чихай.
80. Карточки всегда к услугам.
Гортензия кончила, ей было хорошо. Но что-то не то по-хозяйски разместилось в ее сердце, что-то не то отложилось в ее душе.
Поразмыслив, она поняла, в чем дело. Во-первых, все случилось очень быстро. А во-вторых... Во-вторых, в какой-то мере, она не занималась эти пять минут любовью, в какой-то мере она работала. Отрабатывала бело-голубой замок, английский парк со статуями богов и йоркширскими коровами.
"Ну, не работала, – стала она оправдываться перед собой, а выражала признательность. Жала так сказать ручку, благодарно блестя глазами. Все это нормально, все женщины либо занимаются любовью, либо выражают благодарность. Но это две большие разницы, и Миша может заметить. Конечно, заметит... Ведь заниматься любовью с владельцем заводов, дворцов, пароходов нельзя. Нельзя заниматься любовью с человеком, который за две секунды может поменять дискету, и ты за две секунды из роскошной спальни переместишься на ложе из раздавленных картонных коробок. Может, все это не совсем так, скорее всего, я преувеличиваю, но выводы можно сделать. Необходимо сделать.
Во-первых, любовь, даже если она благодарность, длится час (размечталась после пяти минут!), а дворец с золоченой кроватью, "Кадиллак" и неисчерпаемые кредитные карточки длятся двадцать четыре часа в сутки.
Во-вторых, любовь-благодарность неминуемо родит просто любовь. Непременно появится человек, с которым можно будет заниматься просто любовью. Конечно, с его стороны любовь может быть и любовью-благодарностью, но это не важно. Это разные вещи, ведь никто не будет спорить, что есть любовь на всю жизнь, а есть любовь, как брикет мороженого – полакомился и пошел дальше, сытый и довольный".
Даша заулыбалась, представив себе этого человека. Это сладкое мороженое... Это был немногословный античный бог с застенчивым взглядом, ежеминутно грозившим превратиться во взгляд тигра, в сумасшедший влюбленный взгляд...
Михаил Иосифович, к этому времени уже сидевший за столом, ответил ей улыбкой понимающего человека. "Что поделаешь, если есть работа? Тяжелая, нервная работа, часто не совместимая с чувственной любовью? Из-за нее-то я и взял тебя. Я буду приходить с работы усталый и выжатый, как лимон, озлобленный и удрученный. А ты будешь мне улыбаться, благодарно улыбаться, и я буду смотреть на тебя, как на чудесный цветок, буду смотреть и возрождаться. Вечером мы будем лежать рядом, и ты будешь меня целовать, ничего не ожидая и ничего не требуя... И еще ты будешь ходить со мной на приемы и рауты, и будешь улыбаться тем людям, которым буду улыбаться я. За все это я буду умен, и буду умен ровно столько, сколько будешь умна ты.