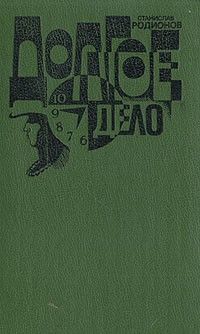— Почему теоретически? — спросил он и подумал, хватит ли у него сейчас сил беседовать о жизни. И на каком уровне с ней говорить — опускаться до её понимания нельзя, предлагать свой уровень было рискованно, не поймёт, а значит, и не примет. Да и как говорить с человеком, который не был знаком даже с первым кирпичиком — трудом…
— Почему же теоретически? — повторил Рябинин, потому что она синхронно замолкала, стоило ему задуматься.
— О труде хотя бы. Как можно любить работу? Я вот на фабрике вкалывала — занудь.
— Значит, эта работа не по тебе. А её нужно найти, свою работу. Я вот юридический закончил заочно. До этого работал в экспедициях рабочим. Придёшь с маршрута, рубашка вся мокрая, хоть выбрасывай. От жажды задыхаешься, руки и ноги отваливаются — стоять не можешь. А приятно. Ты хоть раз потела от работы?
— От жары.
— Тогда не поймёшь, — вздохнул он. — Вот какая несправедливость: столько стихов пишут про листочки, цветочки, почки. А о мокрых рубашках не пишут. Поэтично бы написали, как о цветах. Так бы и назвали: «Поэма о взмокшей рубашке».
— Я в колонии напишу, — горько усмехнулась она. — Поэму о взмокшем ватнике.
Рябинин ощутил силу, которая возвращалась, как откатившая волна. Он распрямился на стуле и чуть окрепшим голосом продолжал:
— Это про работу руками… А тут у меня работа с людьми, психологическая. Тут другое. Руки вроде бы свободны, ничего в них, кроме авторучки…
— У тебя работа психованная, — вставила она.
— Но тут другое удовольствие от работы. Попадётся какая-нибудь дрянь, подонок…
— Вроде меня, — ввернула она, и Рябинин не уловил, так ли она думает о себе или к слову пришлось.
— Ты не подонок, ты овца.
— Какая овца? — не поняла она.
— Заблудшая, — бросил Рябинин и продолжал: — Вот сидит этот подлец с наглой усмешкой… Преступление совершил, жизнь кому-то испортил, а ухмыляется. Потому что доказательств мало. Вот тут я потею от злости, от бессилия.
— Посадить человека хочется? — спросила она, но беззлобно, с интересом, пытаясь понять психологию этого марсианского для неё человека.
— Хочется, — честно признался Рябинин, схватываясь всё больше тем жарким состоянием, когда человек в чём-то прав, но не может эту правоту внушить другому. — Очень хочется! Вот недавно был у меня тип. Одну женщину с ребёнком бросил, вторую с ребёнком бросил, детям не помогает, женщин бил. Женился на третьей. И вот она попадает в больницу с пробитой головой. Сама ничего не помнит. А он говорит, что она упала и ударилась о паровую батарею. Свидетелей нет. Все понимают, что он её искалечил, а доказательств нет. Вот и сидит он передо мной: хорошо одетый, усики пошлые, глаза круглые, белёсые, блестящие. Что меня злит? Ходит он меж людей, и ведь никто не подумает, что подлец ходит. Ну кто им будет заниматься, кроме меня? Где он будет держать ответ, кроме прокуратуры?
— Перед богом, — серьёзно сказала она.
— Знать бы, что бог есть, тогда бы я успокоился, припекли бы его на том свете. Вот я и решил: раз бога нет — значит, я вместо него.
— Ты вместо чёрта, — ухмыльнулась она.
— Потел, потел я сильно, — не обиделся на реплику Рябинин, потому что это было остроумно да и слушала она внимательно. — Пригласил физика, который рассчитал падение тела. Сделал следственный эксперимент, провёл повторную медицинскую экспертизу. И доказал, что удариться о паровую батарею она не могла. И посадил его.
— Если не посадишь, то и радости у тебя нет? — серьёзно спросила она.
Рябинин усмехнулся: знал бы кто, что значит для него арестовать человека, даже самого виновного, но ведь ей объяснять не будешь.
— Придёт письмо из колонии — радость. Человек всё понял, значит, не зря я работал.
— Я тебе прямо телеграмму отстучу.
— Или выходит человек на свободу — и ко мне.
— Это зачем же?
— Бывает, спасибо сказать. Поговорить, посоветоваться, жизнь наметить. Матери приходят, просят помочь с подростками. Разве это не здорово: получил подростка-шпану, повозился, попотел с ним года два-три и смотришь — входит к тебе в кабинет человек, видно же, человек.
— А я никакую работу не любила, — задумчиво сказала она. — Да и нет, наверное, работ по мне.
— Почему же, — возразил Рябинин, — одну я уже знаю: воспитывать детей.
— Я?! — дёрнулась она и повернула к нему уже обсохшее лицо.
— Ты.
— Ха-ха-ха, — фальшиво захохотала она. — Умора.
Но Рябинин видел, что никакой уморы для неё нет, — опять что-то задето в ней, как это всегда бывало, когда упоминались ребята.
— Я воспитываю детей? — с сарказмом спросила она.
— Ты воспитываешь детей, — убеждённо ответил Рябинин.
— Кто же мне их доверит?
— Сейчас никто.
— А когда выйду из колонии — доверят?
— Не доверят. Но если ты поучишься, поработаешь, докажешь, что ты человек, — доверят. В тебе есть главное: ты любишь чужих детей. Это не такое частое качество.
Она вдруг растерялась и вроде бы испугалась, взглянув на него беспомощно, будто он её оскорбил.
— Говоришь это… для воспитания? — тихо спросила Рукояткина.
— Да брось ты… Я как с приятелем за бутылкой.
— Правда? — грудным голосом, придушенным от тихой радости, спросила она и вскочив, заходила по кабинету. — Господи! Да если бы мне детей! Да я бы… Ночи не спала. Каждому бы сказку рассказывала. Каждому перед сном пяточку поцеловала… Они же глупые. Многие не знают, что такое мать. С детьми бы…
Рябинин увидел, как перспектива, даже такая призрачная, которая сейчас мелькнула перед ней огнями на горизонте, изменила её мгновенно. Лицо Рукояткиной сделалось добрым и сосредоточенным, даже интеллигентным, и пропал тот заметный налёт вульгарности; она прошлась перед ним по-особенному, стройно и строго, как ходят молодые учителя. На один миг, а может, два-три мига, представила она себя воспитательницей, и Рябинин испугался, — имеет ли он право дразнить человека перспективой, как дразнят голодного куском хлеба… Не издевательство ли — обещать благородную работу человеку, у которого впереди суд и колония… Ну, а чем ей тогда жить в этой колонии, как не мечтой? Он должен показать ей будущее, кроме него — некому. Показать так же настойчиво, как он разбирал и показывал её прошлое.
Рукояткина думала о будущем. Это удивило Рябинина и обрадовало: он-то считал, что ей начхать на всё.
— Главное, понять и не повторять. У тебя ещё жизнь впереди.
— Жизнь-то впереди, — согласилась она, но в голосе не было никакой уверенности. — Жизнь впереди, да начала нету.
— Ну-у-у, — вырвалось у Рябинина, и он махнул рукой, рассекая воздух. — Что начало… Многие жизнь начинают красиво. Надо не на это смотреть, а как они потом живут. Красивых свадеб много, а красивых семей не очень. Студентки тоже красивые ходят, в брючках, модные, высокие, с тубусами… Студенты такие здоровые, спортивные, смелые, всё знают, собираются жизнь перевернуть… А придёшь в НИИ — посредственные инженеры корпят. Ни взлёта, ни страсти, ни смелости… Куда что делось! Потому что красиво начинать легко, а вот жить красиво…
— Тебе просто говорить… Не каждый может.
— Каждый! Каждый может, и всё может — вот в чём дело.
— Чего ж не каждый делает, если может?
— Знаешь почему? Человек сам ставит себе предел. Вот до этой черты я смогу, а дальше у меня не получится. И живёт, и достигает только этой черты. Вот ты. Шла сюда на допрос. Не признаться следователю — вот твоя черта. А могла бы черту приподнять повыше. Скажем, всё рассказать, осознать, чтобы меньше получить. А могла бы черту ещё поднять: отбыть наказание, завязать, пойти работать. А могла и ещё выше. Учиться начать, забыть прошлое, стать педагогом. Да эта черта беспредельна, как духовное развитие человека.
— Это на словах только просто.
— Я не говорю, что просто. Трудно. Для тебя в сто раз трудней.
— Не в моих условиях эти чёрточки рисовать, — не согласилась она.
— Условия?! Человек должен плевать на условия. Теперь всё на условия валят. И ты: мать, мастер, дураки кругом, никто тебя не понимает… А что ты значишь сама как личность?! Впрочем, что это я морали тебе читаю, — спохватился он.
Самолюбие начинающего следователя частенько тешилось властью. Шутка ли сказать: иметь право вызывать людей, допрашивать, обыскивать, предъявлять обвинение и даже арестовывать. Рябинин считал, что следователь обладает ещё более ответственным правом, чем допрос или арест, — правом учить людей. Как раз это право начинающие следователи не считали серьёзным, поучая вызванных с завидной лёгкостью.
Поэтому Рябинин не учил образу жизни. Он мог поговорить только о её принципах. Вспомнился спор двух лётчиков в аэропорту, да и спора-то не было, а была хорошая умная фраза. Один молодой, пружинистый, высокий, с фотогеничным лицом и дерзким взглядом, лазерно смотрящий на людей. Второй в годах, седоватый, уже не прямой, но спокойный и медленный, как время. Молодой ему с час говорил, сколько он налетал километров, какого он класса, на каком счету и чего добьётся в воздухе. Второй лётчик слушал-слушал и сказал: «В воздухе-то многие летают, а ты вот на земле полети».