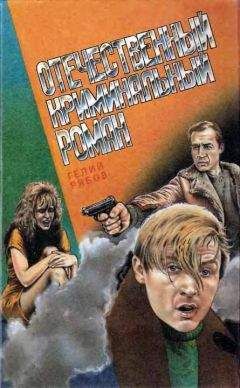Золота больше нет, оно под конвоем, офицеры разбегаются как крысы, уходят не попрощавшись, зачем им бывший нужный человек… Пепеляев рыдает в углу. «Ведите себя прилично», — это Колчак. Время спрессовывается, оно все короче и короче, и вот его больше нет.
Стоим три минуты, поторопитесь, полковник…
Уходят последние, все. «Прощайте, Анна Васильевна, Александр Васильевич, честь имею». Они целуют Надю в лоб, как покойника, с заснеженного перрона я еще долго вижу в окне их черные профили…
Надя смущена: «Мы должны были остаться». — «Я предлагал. Он ответил: „Я погибну, потому что такова моя судьба. Аня… Надеюсь, она останется жива, но если нет — жили вместе и вместе умрем. А вам зачем?“ Говорю: долг, верность, честь. Отвечает: умирать надобно во имя идеи, а не во имя мертвецов. Несите свою идею — и кто знает…»
Есть ли во мне еще эта идея?
Уходит поезд, на подножках — заиндевелые чехословаки, рубиново светит последний фонарь. Воскресый из мертвых, Христос, истинный Бог наш, помилуй нас…
И вот метель, телеграфные столбы, уходит в мутную мглу дорога, мы бредем по ней, ослабевшие, замерзшие, уже не люди, а полутрупы — то, что еще совсем недавно было последним вооруженным формированием Русской армии. Те, на юге, «ВСЮР»[25] — призраки от рождения, мы же пытались. Не привел Господь, и наша ли в том вина?
В сумерках за поворотом деревянная церковка, сквозь маленькие окна проливается красноватый свет, слышно нестройное пение, с трудом различаются слова: «Кая житейская сладость пребывает печали непричастна, кая ли слава стоит на земли непреложна; вся сени немощнейша, вся соний прелестнейша: единем мгновением и сия вся смерть приемлет…» «Что здесь?» На вид лет сорок — кадровый, да это и по шинели видно, по башлыку: все пригнано, как на параде. Кольнул глазом: «Панихиду служат, ваше высокоблагородие. Вы, господин полковник, заведите вашу даму в церковь, она, поди, окоченела вся…» — «По ком панихида?» — «По Расее, вашскобродь, по ком еще?» — «Зачем же идешь? Таких, как ты, красные прощают». Закаменел: «Я б их простил! Вы идите, дамочка совсем мерзлая…»
Вошли, священник седенький, старый, сморщенный сказал: «Дадим умершему последнее целование…» Гроб посредине главного нефа, в ногах и головах офицеры, лицо у покойника белое, тонкое, бородка знакомая, да это же…
— Володя…
— Изволили быть знакомы, господин полковник?
Какой-то чиновник подобострастно заглядывает в глаза. Вытянулась цепочка вокруг гроба, наклоняются, целуют, крестятся…
— Кто это, Алеша?
— Помнишь, я ездил в Казань — еще Аристарх был жив? Так вот — это Каппель. Мы учились вместе, я знал его семью.
Подошел, наклонился, его усохшее лицо уместится в моей ладони. Прощай…
…Они четко отпечатали в сторону и направо, еще четверо накрыли гроб. «Что с ним случилось, господа?» Внимательный, слишком внимательный взгляд — он не ответит каждому, но я вызываю доверие: «Шли по Иртышу, пятьдесят градусов по Цельсию ниже нуля, разумеется, он уже прибаливал, а тут, как назло, конь сорвался в полынью. Умер через сутки…» — «Куда везете?» — «В Китай, в Харбин, похороним там». Надя крестится: «Упокой, Господи… — И смотрит на меня: — Все в прошлом, Леша. Красное село, государь, все…»
Офицер качает головой непримиримо: «Все в будущем, сударыня. Мы, каппелевцы, живы еще — и значит, Россия жива. Прошу посторониться…»
Они поднял гроб на плечи — простой, деревянный, из неструганых досок. Главком Восточного фронта, надежда и гордость Верховного, закончил свой путь на земле.
И мы все заканчиваем его. Что сейчас Колчак, Темирева? Мне снова кажется, что я вижу то, чего нет: крутой склон с крестами, две согбенные фигуры и напротив — полукруг странных людей с винтовками. Сейчас прогремит залп…
— Полковник Дебольцов?
Оборачиваюсь — знакомое лицо, усы в инее… «Наумов? Поручик?» — «Подполковник. Фронт есть фронт, чины зреют, как виноград осенью. Вот, вез Верховному ответ Деникина, да и опоздал… Телеграмму Иркутского ВРК знаете? Колчак и Пепеляев расстреляны. И генерал Волков убит. Вы через границу?» — «А вы?» — «Само собой. У меня голос, на гитаре играю, не пропаду. Не хочется, знаете ли, под забором умирать. Да и не умеем мы… Это они… — оглянулся куда-то назад, вздохнул, — это они умеют. Верите ли, вот только две недели тому, — на Маныче, последние наши кордоны, потом шел через красных и дрожал. А наши у Тихорецкой взяли в плен красного начдива — не то Мазинь, не то Лазинь — у них ведь все немцы или иудеи, и ведь как красиво умер! С третьего залпа убили, у наших руки тряслись — верите ли? А он стоял и улыбался — свою будущую РСФСР видел, красную. За что они умирают?» — «А мы за что?» — «Верно, каждый за свое. Но уж так здорово…»
— Азиньш — Надя перекрестилась.
— Да ведь он и не верил, поди? А вы что, знали его?
Улыбка тронула ее губы: «Мелькнул в моей жизни такой человек. Жестокий, беспощадный».
Много позже, вспоминая этот дорожный разговор, я думал: жестокий? Беспощадный? А может быть, Александр Блок — прав? Тысячу лет мы били стадо кнутом, а когда оно бросилось на нас — попытались утопить в крови. Как они должны были ответить на кровь?
…Утром подошли к границе — полосатый столб с двуглавым орлом, его скоро снимут и повесят серп и молот. Что ж, это право победителя. Надо жить, не надо вспоминать…
И здесь… Справа и слева, бесшумно, как в предутреннем кошмаре (сон — всегда один и тот же, — мне становится страшно, и я просыпаюсь с криком), наш путь пересекли два эскадрона красных, и я понял, что пройти они нам не дадут…
Я видел их лица и морды лошадей; храп и позвякивание трензелей я тоже слышал отчетливо. Они стояли не шелохнувшись, никто не сделал попытки обнажить шашку или снять из-за спины карабин. Знакомый унтер прошептал бессильно: «Пулемет бы сюда, ох пулемет…» Но не было у нас пулемета…
И вдруг кто-то крикнул: «Чего там… Пошли…»
И мы двинулись. Мимо них. Холодных, уверенных, равнодушных. Им было все равно.
А я смотрел на телегу с гробом и думал: зачем… И еще я думал: странен русский язык. Слово «покойник» в нем — одушевленное существительное…
За столбом я обернулся: вот она, российская горькая земля, вот она передо мной. И я навеки покидаю ее. Она ведь чужая теперь. Тянется заснеженное поле, синеет на горизонте лес, и низкое серое небо накрывает землю безнадежной погребальной пеленой. И над всем этим — красный флаг, его держит у стремени знаменосец. Не наш флаг…
Сколько останется жить — не забуду. И сколько ни буду мысленно возвращаться в свое прошлое, будет биться в очи это красное полотнище — символ их победы. Что же остается нам?
Золотой крест над нашей церковью на рю Дарю.
И кресты на Сент-Женевьев дю Буа.
Plusquamperfectum.[26]
1984–1987 Москва
«5 сентября 1918 года по постановлению ВЧК расстреляны в порядке Красного террора:
А. Н. Хвостов — б. министр внутренних дел
С. П. Белецкий — б. товарищ МВД
Н. Г. Щегловитов — б. министр юстиции
И. Восторгов — протоиерей
Н. А. Маклаков — б. министр ВД
А. Д. Протопопов — б. министр ВД»
Известия № 151 (415).
Алексеев — начальник штаба Верховного Главнокомандующего, позже — глава русской контрреволюционной «Алексеевской» организации.
Верх-Исетский завод.
Дом Особого назначения, так называли особняк Ипатьева, когда в нем содержались Романовы и их люди.
Диалектное — дом умалишенных.
Речка в г. Нижний Тагил на Урале.
В отличие от «аморально» означает «безнравственно». «Аморально» же — сугубо практически, по необходимости. (По словарю того времени).
Трупы (лат.).
С нами Бог.
Почетное право Первой ученицы.
Обозначение в Периодической системе.
Законный, по праву наследования.
Дроздовский марш.
Третьего не дано.
Это школой руководил А. В. Луначарский.
Вооруженные силы юга России.
Солдаты Сибирской армии.
«Моментами» называли в первую мировую войну прапорщиков, мгновенно получивших чин.