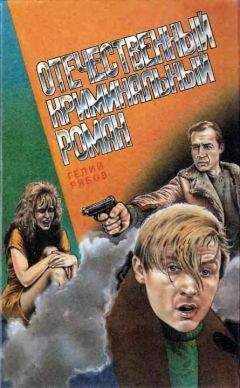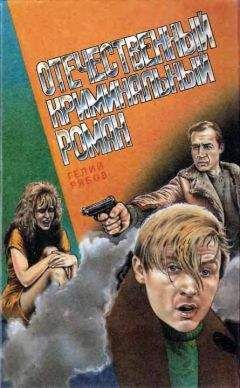По дороге домой Глебов размышлял о том, что ненависть Виолетты материализовалась страшно, и в одном Моломбиев прав: Виолетта — плоть от плоти этих людей, она — их друг и союзник, единомышленник, он же — чужой и всегда был таким, и они это чувствуют. «Ты знаешь, что мне сказала Марья? — Лена усмешливо посмотрела на Глебова. — Этот опер зашел к ней на кухню и спросил: зачем, говорит, вы собираете этот хлам? От него одни неприятности! Если он вам так уж нравится — посещайте музеи, а дома разве можно держать?» — «А Марья?» — «Пыталась объяснить, что коллекционеры приносят пользу, сохраняя старинные вещи, потому что в конечном счете эти вещи попадают в те же музеи. Не внял. Чепуха, говорит. Питательный бульон для жульничества, соблазн. — Лена замолчала. — Послушай, неужели ТАМ все так думают?»
Уснули под утро — Глебов обнаружил, что Брокгауза на полках нет, и очень расстроился…
Но поспать не пришлось — позвонила Надя, попросила приехать к музею древнего искусства, Глебов и Лена помчались. Около церкви на углу стояла Надя, с зареванным лицом, из ее сбивчивого рассказа выяснилось, что к ней приезжал Коркин и сообщил, что продавцы арестованы и решено ее, Надю, тоже арестовать. После этого Коркин посадил ее в машину, привез в свое учреждение и допрашивал шесть часов без перерыва. «Он добивался, чтобы я оговорила Лагида и остальных». — «Как именно?» — «Что они мне давали взятки». — «Ты же не должностное лицо». — «Он сказал, что есть новый закон и теперь я отвечаю наравне с директором магазина». — «Он обманул. Как ты среагировала?» — «Заплакала». — «А он?» — «Посоветовал „признаться“: мол, за каждый предмет я брала или цветы в подарок, или коробку конфет, а иногда и деньги — 10–20 рублей. Сказал, что это признание позволит ему вывести меня из дела. Я говорю: не было этого! Он смеется: не важно — было или не было, ты о своем муже подумай, о сыне — и лампу в лицо, как в кино, в общем — призналась я и что теперь делать — ума не приложу…» Она с надеждой посмотрела на Глебова. «Гадюка ты», — не выдержала Лена, Глебов укоризненно, качнул головой: «А этот Коркин — психолог… Правильно угадал твою реакцию. На то и расчет. — Тронул Надю за руку: — Главное — не бояться». — «Я не боюсь». — «А вот это — неправда. Я тоже боюсь, и не потому, что виноват, а потому, что мы пересекли дорогу слепой и жестокой силе…»
Под диктовку Глебова Надя написала письмо в прокуратуру. Суть его сводилась к тому, что под незаконным давлением были искажены факты и получены показания, не соответствующие действительности. Надя вытерла слезы, улыбнулась: «Вы мой спаситель. Сама себе противна, ей-богу, подумала — как буду людям в глаза смотреть?» — «А ты бы вспомнила про что-нибудь приятное, тебе бы легче стало». — «Вы серьезно?» — «Вполне». Надя задумчиво пожала плечами: «Может, вы и правы. — Взглянула на Глебова: — Не хотела при Лене… Виолетта приходила… — Глебов нахмурился. — Пристала: красивая Лена? Говорю — красивая. Я, говорит, тоже была молодая, мужики липли. Ничего… Скоро дорогому муженьку отольются мои слезки, ты, говорит, его спроси: на какие доходы он автомобиль приобрел и шубу своей… этой. Я к тому, Геннадий Иванович, что ее опасайтесь».
Приехали домой, на туалетном столе Лены отсутствовали подсвечники и вазы — Ненила Фирсовна была человеком настойчивым.
Шуба и автомобиль… Не на ворованные, конечно. Получил последний крупный гонорар, уже «вне» Виолетты, и купил шубу любимой женщине. Нерационально, конечно. Но почему же только тем, тогда и до того можно было делать любимым женщинам подарки, а после того только духи за двадцать пять — предел? Ну пусть гусарство, пусть глупость, а что по-настоящему человеческое, не усредненное укладывается в коридоры и кухню коммунальной квартиры? Чувство локтя и острые глаза, заглядывающие в твою кастрюлю, не дай Бог — икра по восемьдесят «ре»? К черту все, надоело.
А вообще-то — почему можно требовать от Виолетты некой «адекватной» реакции на эту красивую шубу и не менее красивый автомобиль? В конце концов она реагирует так, как ее научили в школе, молодежной организации и на работе. Научили друзья, подруги, окружение и нечто шире всего этого. Разве она виновата? Она только жертва обстоятельств, не более того. Древние книги она не читала по незнанию древнего языка. И вообще: из «обстоятельств» вырывается только тот, кто осознает их великую несообразность и у кого есть желание вырваться. И силы — это, пожалуй, главное. Когда-нибудь феномен общественного сознания вновь отыщет то, что утратил в бесконечных блужданиях по кругам низменого быта и вороньим слободкам души. И придет к любви. Но этот путь тернист, и тернии на нем — жилплощадь, колбаса, автомобиль, дача, шуба и Бог знает что еще… Трудно пробиться сквозь тернии живой души. Изрядно пообдерет она себя, если вообще уцелеет.
А Коркин с друзьями уже приближается…
Постепенно все дела Глебова отошли на второй план, растерянные, испуганные люда звонили ему с утра до вечера, он успокаивал, уговаривал, упрашивал и, оглядываясь во время этих бесконечных телефонных разговоров на Лену, все чаще и чаще замечал в ее глазах тревогу и недоумение. Как-то — после особенно длинного и нервного разговора — Лена раздраженно пожала плечами:
— Ты уверен, что все они невиновны?
— Да.
— А «компетентные»? Ошибаются? Что ты вообще знаешь? Они следили, готовили дело, тебе нужно быть осторожнее.
Он попытался ее успокоить, сказал, что не все в подобных случаях определяется фактами, в конце концов они получают потом сплошь и рядом другое объяснение, в то же время есть нечто, что никогда не подводит, потому что не подвержено точкам зрения, веяниям и влияниям. Вот стоит перед тобой человек, с которым ты общался, приятельствовал или, тем более, дружил, и — ты знаешь: он порядочный человек. И этим все сказано. Наветы рассеются, мнимые доказательства — испарятся, пройдут кампании за и против, а порядочный человек пребудет таковым до гробовой доски. Только это дает надежду, только это…
Разговор был тяжелый и неприятный, на другой день теща спросил: «Ну, Геннадий, ну если вас посадят, ну вы же должны понимать, что будет с Леной?» — «Передачи будет носить». — «Какие передачи, что вы несете?» — «В тюрьму. Не переживайте, это Таганка была с клопами и тараканами, так ее снесли, а Бутырка и Матросская тишина — люкс!» — «Там что, матросы сидели? — заинтересовалась теща. — А почему „тишина“? Они что, сидели тихо?» Глебов успокоил тещу как мог, но она ушла с великим сомнением на лице. С этого дня в дом Глебовых пришла боязливая маета, и хотя ее подавляли, старались не показывать вида, она завладела мыслями, делами, бытом — всей жизнью. На столе валялся незаконченный сценарий, Лена приходила уставшая и раздражалась по каждому пустяку, в самое неподходящее время звонили несчастные «клиенты» и спрашивали совета, так продолжалось до того дня, когда позвонила мать Жиленского и невнятным голосом сообщила, что его арестовали.
Менее всего люди подвержены воздействию праведных формул и заклинаний, — наверное, потому, что их придумывают те, кто хочет оградить собственное презрение к закону, — это Глебов наблюдал со времен студенческой практики. Уже тогда приглашали его более опытные старшие товарищи «на точки»: купить копченой колбасы, банку-другую крабов, дефицитные туфли заграничного производства, это не только не считалось зазорным — наоборот, нормой, только говорить вслух было не принято, и Глебов понял, что так живут многие — может быть, все; в конце концов те редкие исключения, которые приходилось видеть, только банально подтверждали правило: всяк за себя, а великие истины, начертанные на каждом углу, — не более чем приятный фасад. Что ж, это было горькое постижение, очень неприятная правда, но ведь еще сто лет назад заметил русский писатель, что общество разучилось отличать плевела от пшеницы, потому что слишком долго питалось сладким. Для выздоровления же нужны горькие лекарства и горькие истины.
Как же он вел себя в те благословенные времена? Отказывался, негодовал, сражался? Нет. Ходил, когда звали, и брал (когда была возможность) доступный по деньгам дефицит. А что в те годы не состояло в ранге «дефицита»? Трамвайные билеты и хлеб в булочных. Очереди пронизывали улицы, переулки, площади и дворы. «У нас нет времени стоять в очередях! — восклицал начальник Глебова, выходя из служебного входа очередной торговой точки. — Мы каждую минуту можем умереть от пули или инфаркта. И вообще — вглядись». Однажды Глебов вгляделся: в переулке, где-то в самом центре города остановился «ЗИС»-фургон, и расторопный человек в белом фартуке поволок в парадное картонные ящики. Это был «паек», его получали немногочисленные категории особо необходимых государству людей.
Так в чем же разница? — спросил у себя однажды Глебов. Ее вроде бы и не было — по глубинному отсчету.