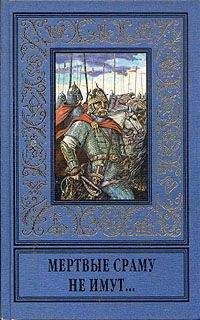Председателя привел Шиша. Это был низенький толстый лысый мужчина в очках с золотой оправой. Одно стекло было треснутое. Черты лица кавказские, а остатки волос на висках и затылке – светло-русые. Карие глаза воровато бегали, напоминая стрелки приборов, в которых постоянно отключается ток: вдруг западали в левые и правые уголки глаз, потом исчезали, потом выпрыгивали в среднее положение, колебались в нем и вновь западали в уголки. Под левым глазом красовалась свежая ссадина.
– В машине нашел. Скойлался шлангом на переднем сиденье – и не дышит, думал, не замучу, – сообщил Толик. Двинув председателя по груди рукояткой револьвера, прикрикнул: – Что морду воротишь? Смотри, падла, во что твоя жадность вылилась!
– Не трогай, он нам еще должен деньги отдать, – остановил Коноваленко.
– Отдам, все отдам! – скороговоркой пообещал армянин, поправляя очки, сползшие на кончик носа.
– Неси.
– Не здесь. Позвоню, привезут. Все привезут!
– Смотри, если хвост приведут... – Коноваленко сделал паузу. – Нам теперь терять нечего.
По телефону Коноваленко заставил говорить по-русски, правда, председатель так частил, что речь его была похожа на какую угодно, только не на русскую. И таки умудрился вставить несколько фраз на армянском. Старший лейтенант сделал вид, что не заметил: слишком напуган кооператор, чтобы рисковать жизнью. Какому-то Норайру было категорично приказано привезти деньги – «хоть под камнем найди!» – и отдать на шоссе неподалеку от кооператива, где его будут ждать в председательской «волге».
Коноваленко вернулся в заготовочный цех, сказал Толику, чтоб со Спирей вез Виктора домой.
– Жанне передашь, пусть врача вызовет, она знает кого. Если врач будет брыкаться, пусть от моего имени пригрозят... Я позвоню, когда все кончится. – Старшой повернулся к председателю. – Хорошо ведь кончится?
– Когда убегаешь от врага, за мышиную нору заплатишь тысячу туманов.
– Возьмем и валютой, если не выше курса черного рынка, – то ли не понял, то ли пошутил милиционер. – Пошли в машину.
Черную «Волгу-двадцатичетвертку» вел Коноваленко, а Сергей и председатель сидели сзади. Первое время кооператор косился на пистолет, но вскоре привык. Старший лейтенант остановил машину на обочине в начале крутого спуска. Подъехать к ним можно было только спереди или сзади, в обе стороны дорога просматривалась метров на пятьсот.
Ждали минут сорок. Двигатель тихо работал на холостых оборотах, нарушая гнетущую тишину в салоне. Изредка мимо проносились машины на большой скорости. Сначала впереди или позади «волги» появлялся свет фар – два положенные на бока конуса с размытыми основаниями. Конусы врезались в лобовое стекло, наполняя салон рассеянным, бледным светом, который становился все гуще и чище и вдруг исчезали. Когда набивалось в машину слишком много света через лобовое стекло, председатель снимал очки и протирал глаза носовым платочком. И все время курил, штук шесть-семь высмолил своих, потом стрельнул у Коноваленко. Хотелось подбодрить его: мол, не бойся, если привезут деньги, все будет тип-топ.
Вот встречная машина медленно вползла на склон, остановилась, не доезжая метров двадцать. В окошко в дверце высунулась голова водителя.
Коноваленко достал пистолет, передернул затвор.
– Пусть передадут в окно и отъедут метров на сто, пока не пересчитаем, – приказал он кооператору. – И без фортелей, понял?
– Кок говоришь, так и сделаю, – заискивающе ответил председатель, шустро крутя ручку стеклоподъемника.
Председатель крикнул в открытое окно несколько фраз по-армянски. К нему направился черноволосый мужчина в костюме-тройке и с дипломатом в руке. Шел осторожно, будто шоссе между машинами заминировано. Коротко переговорив на армянском с председателем, отдал портфель-дипломат и почти бегом вернулся назад.
– Закрой окно, – сказал Коноваленко.
Машина, привезшая деньги, проехала мимо них, остановилась в метрах ста. Водитель удерживал ее на ножном тормозе: по краям багажника горели два красных глаза.
– Свети зажигалкой, – сказал Старшой кооператору.
Разноцветные пачки, большей частью – в банковской упаковке, заполняли темно-красное нутро портфеля доверху. Пересчитывать каждую пачку – до утра не справишься.
– Проверь, чтоб «куклу» не всучили, – сказал Коноваленко и посмотрел на председателя: – Догадался, что будет, если попробует надуть?
– Мамой клянусь – все правильно!..
– Не шурши, – остановил его старший лейтенант, – свети лучше.
В синеватом свете и при тихом шипении газовой зажигалки Сергей разрывал ленты на пачках, загибал, как колоду карт, и отпускал. Купюры с шелестом укладывались одна на другую, и от легкого ветерка, поднимаемого ими, колебалось длинное узкое пламя, прозрачное в середине и голубое по краям. Пачки со сторублевками были новенькие, еще пахли краской: печатные станки в Стране Советов работают без перерыва.
Коноваленко взял по купюре из новых пачек, проверил водяные знаки при свете собственной зажигалки. Небрежно кинул в дипломат и ничего не сказал. Одна бумажка скользнула мимо, председатель полез за ней, долго возился у ног Сергея и кряхтел так, будто рыл подземный ход из машины. И вообще, чем дольше проверяли деньги, тем непоседливее становился председатель, нетерпеливо произносил:
– Я пойду, да?
Во всех пачках были деньги и вроде бы не фальшивые.
– Порядок.
– Я пойду, да?
Коноваленко положил портфель на переднее сиденье. Кабина в это время начала наполнятся светом встречной машины. Когда свет залил салон машины кооператоров, старший лейтенант, не включая фар, тронулся с места, на большой скорости влетел в первый проулок справа, а на следующем перекрестке опять свернул вправо.
Председатель кооператива, забившись в угол, ничего не спрашивал и не просил сигарет.
Старшой попетлял по темным улицам, застроенным одноэтажными домами, вывел «волгу» за город, проехал вдоль посадки с голыми ветвистыми деревьями, свернул к балке. Склоны ее были отвесными, видать, раньше здесь брали глину экскаваторами. Теперь балку превратили в свалку строительного мусора. Не все самосвалы дотягивали до обрыва, и у обочин громоздились кучи битого кирпича и штукатурки, балки и плиты, из которых торчали скрюченными перстами прутья арматур.
– Проводи его, – сказал милиционер Сергею.
Председатель по отношению к смерти вел себя как меньшинство, но не малая его часть: побрыкался, повизжал, а получив рукояткой по голове, сник и безвольно посунулся по сиденью, вытягиваемый Сергеем. К обрыву шел на полусогнутых ногах, будто в штаны наложил. А может, и так – душок от него неважнецкий. На краю обрыва кооператор ухватился за обломок плиты, словно боялся высоты.
Падать-то нечего – метра три-четыре, да и склон не такой крутой, как казалось из машины. Сергей направил ствол пистолета туда, где лысина переходила в темно-русые завитки, прикрывающие затылок. Одним больше, одним меньше...
Антон-Братан погиб за несколько дней до дембеля, в мае, когда покрытые цветущими маками сопки казались залитыми алой кровью. Погиб по чужой глупости. По собственной гибнут «молодые» и «вольные стрелки», но вторые по большей части и из-за собственной борзости: гонора уже через край, а опыта ещё не хватает. А вот «деды» – обязательно по чужой: дураки так долго не воевали. Конечно, был ещё и случай в образе шальной пули или осколка. Впрочем, если сам не шальной, то они тебя не найдут.
Глупость, погубившую Антона, породила другая, стоившая жизни целой роте. Служила эта рота на спокойной точке, изредка постреливала, изредка чистила кишлаки – по афганским меркам существовала беззаботно. Ротную жизнь кто-то уложил в график, согласно которому, чтобы солдаты не сильно расслаблялись, два раза в месяц водили их устраивать засаду в одном и том же месте. Ходили туда, как на пикник. Десантники подшучивали над такими засадами: повели жеребцов в ночное. В последний раз не довели. Душманы, не стесненные никакими графиками, заметили эту закономерность и устроили засаду на пути к засаде. На точку вернулись лишь шестеро солдат. Утром подобрали изуродованные трупы, пересчитали. Не хватало пятерых. Из-за них и кинули десантников брать душманскую базу.
Заставу разделили на четыре отделения, одним из которых командовал Гринченко. Сшибая ботинками алые лепестки и путаясь в маковых стеблях, бежал он к вершине сопки, стрелял из автомата и отгонял «молодых», которые жались к нему, как цыплята к квочке. Вроде бы задавили миномётчики пулемёт на сопке, но он вдруг ожил. Метко бьёт, гад. Поклонившись его пулям, Гринченко ткнулся лицом в землю. Прямо перед глазами оказался цветок мака. Был цветок не таким уж и красивым, каким представлялся в вертолёте, – грубее, что ли. И лепестки воняли пороховой гарью.