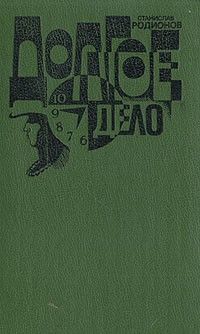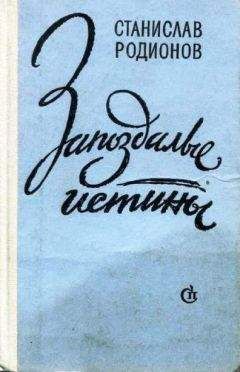— Ещё налить? — спросила Лида, чуть тревожа голос: третий стакан.
— Конечно.
Чай для Рябинина был не просто напитком. Как многие городские жители, инстинктивно жаждущие связи с природой, он чувствовал её даже в чае. Чай и есть частичка природы. Он пах травами, да и сам был обыкновенным сушёным листом. Стакан чая — его нужно пить только из стакана, — поставленный на солнце, солнцем же и вспыхнет, словно эта звезда плеснула в него свою огненную жидкость, потому что чай жил под солнцем и запас бушующего света не на одну заварку. Для чая не годились маленькие чашечки, вроде кофейных, его там не видно, да и не идёт ему манерность, как, скажем, не идёт писать на маленьких пачках членистоногие выражения «Росглавдиетчайпром». Нужно очень просто и очень кратко — «Чай». Только золотом. Казалось бы, не наше слово, а давно обрусело и стало своим, как «дом» или «хлеб». Есть длинный и нежный цветок «иван-чай». Но нет и не могло быть «иван-кофе» или «иван-какао».
— Ещё? — удивилась Лида, удивляясь этому каждый вечер.
— Последнюю.
— Водянка будет. Может быть, теперь кофейку? — хитренько спросила она.
Если чай Рябинин считал самой природой, то кофе относил к продукту научно-технической революции, к её издержкам. Когда он видел чашку тёмной дегтярной жидкости с ободком жёлтой пены, ему казалось, что её зачерпнули из мутного городского ручья. Тут напечатанное на коробке слово «Ростовкофецикорпродукт» его не коробило. Он не верил любителям кофе, подозревая их в простой приверженности моде.
— Спасибо.
Рябинин поднялся и поцеловал Лиду.
— Что будешь делать? — спросила она.
— Прокурор дал небольшой матерьяльчик. Уж посмотрю сразу, чтобы завтра быть свободным.
— Небольшой? — Она прищурилась, и её серые глаза потемнели: эти большие и небольшие матерьяльчики бывали почти каждый выходной.
— Крохотный, — заверил Рябинин и, чувствуя от чая некоторую тяжесть, прошёл в комнату к своему огромному столу.
Ампирная старинная лампа сияла позолотой, как собор. Он сел в кресло и включил её, хотя в комнате было ещё светло, — для уюта. Жёлтый свет упал на крупно исписанные листки его статьи, а может быть, целой монографии, озаглавленной «Виновное поведение». Для кого писал, кому она нужна… Только для себя, с единственной целью — выговориться, отдать свои мысли бумаге, потому что они мешали, толкали на споры, которые никогда не приносили ему облегчения. Впрочем, статью можно предложить какому-нибудь юридическому журналу.
Он начал разгребать место…
Статью подсунул под папку с выписками и вырезками о достижениях криминалистической техники. Пачку журналов осторожно сдвинул вправо так, чтобы она вторым боком стиснула пачку книг. Пишущую машинку переставил на самый край. Дневник пока заткнул между кипой обвинительных заключений и куском лилового флюорита, который под абажурным светом казался чёрным. Свинцовый кастет, употребляемый как грузик, был отправлен в кучу, второй год растущую в том месте, где стол примыкал к стене: беглые записи, письма, брошюрки, конспекты, фотографии… Перед собой оставил только портрет Иринки, которая сейчас была у Лидиной мамы, — выпросила её пожить в предшкольный год. И от этого у Рябинина частенько портилось настроение и ныло сердце.
Место было расчищено. Он извлёк прокурорский материал и начал читать, ни к чему не прислушиваясь и не приглядываясь, но чувствуя каждый Лидин шаг. Вот она включила воду — моет посуду. Выключила. Вытирает, позвякивая ложками. Отбросила волосы, и они, видимо, недовольно и сухо зашуршали. Идёт в комнату. Дождался… Оказывается, он тихо и нетерпеливо ждал, когда она сядет в кресло, включит торшер и возьмёт книгу. Тогда можно не оборачиваясь протянуть руку, которая котёнком уткнётся в её тёплое плечо.
Он засмеялся:
— Ты когда-нибудь видела м'куу-м'бембу?
— Видела, — спокойно ответила Лида.
Рябинин повернул к ней голову — она сидела в кресле с ногами, свободно там умещаясь.
— Где же?
— У себя на работе. Сидит в соседней комнате. Двадцать лет пишет кандидатскую диссертацию. Дурак дураком. Чёрный, уже лысый, нахальный. Типичный этот… которого ты назвал.
Рябинину нравилась её свободная фантазия, которая соединяла, казалось бы, несоединимое.
— А что? — Она кивнула на его листки. — Вашу мембу украли или убили?
Он вышел из-за стола, потому что всё прочёл и осталось только спланировать вызовы свидетелей. И подумать, какой тут будет состав преступления, а думалось лучше всего на ходу.
— Мошенничество. Например, за деньги одна дама предсказала молодожёнам, что их брак окажется долговечным.
— И правильно предсказала?
— Пока живут.
— Серёжа, тогда я не понимаю, что такое мошенничество.
— Завладение чужим имуществом путём обмана.
— Какой же она допустила обман? Гадали добровольно. Деньги отдали сами. И предсказание, возможно, сбудется.
— Другую женщину за деньги учила обращаться с мужем.
— И правильно делала.
— Это почему же?
— А кто девушек этому учит? В школе? В семье? Подружки?
— Сердце.
— Сердце научит любить.
— А любовь сама знает, как обращаться с любимым человеком, — убеждённо ответил Рябинин.
Он подошёл к ней и аккуратно, как тончайшей золотой проволокой, обмотал свою руку её волосами. Лида закрыла книгу и не мигая смотрела на торшер, как смотрят в огонь. Она уже была во власти той мысли, которую готовила для ответа.
— Серёжа, должно быть место, куда человек мог бы пойти и спросить о том, что его мучает. Например, о совести, о сомнениях, о той же любви, о тоске своей…
— К батюшке, что-ли?
— Не-ет, ведь хочется знать мнение не кого-нибудь, а государства.
— Есть общественные организации.
— Не-ет, тут нужен специалист по человеческой душе.
Однажды Рябинин не смог вразумительно ответить студентам юридического факультета на вопросы: почему человек идёт за советом к следователю; почему заключённые пишут ему письма, а после отбытия наказания частенько приезжают поделиться, как со старым другом? Потому что следователь — тот представитель государства, который в конечном счёте занимается человеческой душой. Лида на вопрос студентов ответила бы сразу. Откуда у неё взялась такая зрелая мысль? Ведь он только что восхищался её очаровательной наивностью…
— Но ведь мошенница получала деньги, не затрачивая труда.
Лида улыбнулась, заблестев весёлыми глазами:
— Вот тот мумба, про которого я говорила, получает немалые деньги и не затрачивает никакого труда.
— Женская логика.
— Я и есть женщина.
Он размотал волосы, взял её ладошку и погладил своей растопыренной пятернёй, ожидая прикосновения к нежной коже. Но ладонь оказалась сухой и шершавой, пожалуй, грубее его ладоней. Он руками только писал и печатал. Её же маленькие ладошки стирали, мыли, убирали… Та раздёрганная мысль, которая во время разминки хотела зацепиться в голове да так и пропала, теперь вернулась осознанной:
— Ты окна разгерметизировала?
— Что я… окна?
— Распечатала?
— Да. И балкон.
— Я же хотел сам…
Рябинин поднял её руку и поцеловал эту выдубленную мойками кожу, чуть пахнувшую хвоей:
— Вот тебе надо сходить к этой мошеннице.
— Зачем? — удивилась Лида.
— Узнать, как со мной обращаться.
— А я знаю.
— И кто ж тебя научил?
— Сердце, — шёпотом ответила она.
— Но ведь сердце умеет только любить.
— Да. А любовь уже всё умеет.
Из дневника следователя.
Сегодня листал телефонную книгу и удивлялся: какая пропасть научно-исследовательских институтов. Чего только не изучают! Полимеры, цемент, свёклу, огнеупоры, сварку, масличные культуры, полупроводники… Не понимаю, как можно интересоваться состоянием, скажем, цемента, когда рядом живые люди, — их же состояние интереснее. Изучают поведение насекомых, рыб и животных… Опять-таки не понимаю, как можно изучать, например, поведение обезьяны, общаясь ежедневно и ежечасно с людьми… Да ведь человек интереснее! Его поведение нужно изучать, его повадки!
Отступившись от города, зима ещё цеплялась за этот парк, который лежал всего в каких-то километрах пяти от окраин. Чёрные дубы, окаменевшие за зиму, стояли тихо, как стоят деревья поздней осенью или ранней весной, словно чего-то ждали. У земли их стволы проросли плотным мхом и казались укутанными потёртым зелёным бархатом. Пегая прошлогодняя трава лежала на земле как настеленная. Круглые ямы и ямки промёрзли молочным льдом и ярко белели под тёплым солнцем.
Пожилой грузный мужчина медленно брёл по безлюдной аллее. Его тяжёлое длинное пальто было распахнуто и, казалось, своими широкими полами волочится по грязи. Шляпу он держал в руке, подставив лысую голову теплу. Он частенько сходил с дороги и подолгу вытирал ботинки о сухую траву — тогда смотрел по сторонам дальнозоркими глазами. Людей почти не было: на всех воротах висели объявления, что парк закрыт на просушку. Да и грязь. Людей почти не было, но были птицы, и хотя они свистели, щёлкали, прыгали и шумно взрывали воздух где-то вверху, на деревьях, казалось, что ими заполнены все аллеи.