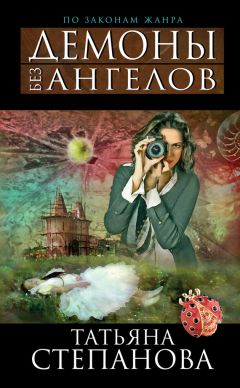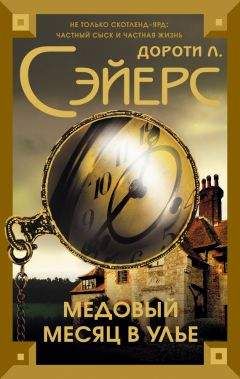У него была такая ошарашенная вытянутая физиономия, когда он увидел их всех втроем… Он пялился на их лица и никак не мог понять – что за пацаны перед ним. Клоны?
Володька первый ударил его в ухо с криком: «Это тебе за Ирку, урод!», и они бросились на него как волчата и повалили на землю, начали бить и пинать ногами.
Откуда взялся тот металлический штырь?! Где, в какой яме брат Эдька… Эдька Цыпин – братан-убийца – отыскал его?
Лаврентий вспомнил, как в пылу драки что-то хрустнуло, словно ветка сломалась. Борька вскрикнул и уткнулся лицом в палые листья. Тело его сразу обмякло, стало вялым. Они отпрянули от него, а Эдька размахнулся и ударил его снова железякой по голове.
Они не разбежались в страхе, нет… Они же клялись стоять друг за друга, и это тоже было их тайной.
Казалось, это сделали не они. Не они его убили там, в парке. А кто-то другой.
Где трое, там и четвертый…
За вашими плечами – смотрит, расправляет свои черные кривые крылья.
Шепчет на ухо, предлагая «выдумать историю о нападении», помогает перетащить мертвое тело в другое место, подальше, подальше…
А потом брат Володька стоит и терпит, а они лупят его, чтобы «остались синяки».
А затем он опускается на землю на сухие листья рядом с Борькой, закрывает глаза и начинает медленно считать до ста. А они что есть мочи мчатся через лес к автобусной остановке, торопясь скрыться.
Досчитав до ста, брат Володька истошно кричит, призывая весь Измайловский парк на помощь.
Потом… да, уже потом, когда все кануло – ужас, шок, ликующее чувство, что их не поймали, что они так и остались безнаказанными и всегда останутся безнаказанными, что бы ни случилось, если будут хранить свою тайну, – серебряная линия снова возникла из мрака.
Но если раньше она сияла ярко и гордо, суля счастье, то теперь лишь тускло тлела, маня и соблазняя, притягивая как магнит, тая в себе угрозу.
Эй вы, там! Всем надеть костюмы радиационной защиты!
Все на борьбу с мутантами! Они – среди вас.
Глава 59
Пироги с капустой
Неделя пролетела, настала пятница. Ангельский какой-то пейзажик возник словно по волшебству, точно из ниоткуда. Как будто невидимый художник… художница… та, о которой столько говорили после ее смерти в Новом Иордане, вернулась, зачерпнула акварельных красок на кисть и начала рисовать.
Как ни в чем не бывало.
И возник на новой фреске серенький жемчужный день, подмосковные дали в дымке, безмятежность и нега, разлитые в воздухе.
С утра в Новоиорданском ОВД шло «расширенное совещание» с участием начальства из главка и прокуратуры. Катя в задних рядах актового зала мирно скучала, дожидаясь перерыва на обед.
Полковник Гущин блестел глянцем лысины в первом ряду, он только что сделал доклад.
В Новый Иордан они ехали из главка вместе, и Катя по дороге, втайне ужасно радуясь, что вот он наконец-то пересилил себя, сподобился и едет, едет туда, куда столько времени отказывался ехать, сказала:
– Федор Матвеевич, а мне понравилось, что у меня в этом деле оказался толковый напарник. Ведь до этого у меня никогда напарника не водилось, скорее уж я всегда играла эту роль при ком-то. И без него мы, конечно же, не справились бы, он нам так помог. Вот было бы здорово, если бы Федя… ваш сын, и в дальнейшем оставался нашим напарником.
Гущин глянул на шофера оперативного джипа – слышал ли тот. Естественно!
– Молодость моя аукнулась. Не подумай, что я там какой-то распутный, но… – Гущин вздохнул, умолк, снова вздохнул. – Только-только женился я, а тут она… Ох и женщина! Огонь. В ОВД работала, на картотеке сидела. Как вспомню, что у нас с ней было… Но разводиться я не хотел, не мог, жену ведь любил очень, жалел. И ее… ее тоже, Федькину мать, так любил.
– У Федора призвание к оперативной работе.
– Он аттестацию не прошел. И не пройдет. Без башни он, сама ж видела там, в Березовой роще.
– Да черт с ней, с полицией, – деловито сказала Катя. – Подумаешь, свет клином сошелся. У вас же такие связи, устройте его в агентство, пусть работает частным детективом.
На совещании объявили перерыв. Серенький жемчужный день в подмосковных новоиорданских далях распогодился, блистая робким, умытым солнцем.
На детской площадке на новенькой карусели перед блочной пятиэтажкой сидели Катя и Федор Басов.
Басов шуршал, разворачивал на коленях фольгу, из которой вкусно пахло пирогами. Полковник Гущин только что скрылся в подъезде.
Вот, наверное, как раз в этот самый момент он поднимается по лестнице, подходит к той самой двери, звонит.
– Когда ты догадалась, что он мой отец? – спросил Басов.
– Не сразу. Хотя нет, почти сразу, – ответила Катя.
– Я что, так похож на него?
– И нет. И да.
– Держи, горячий еще, этот с рисом, а эти вот с капустой, – Басов протянул ей пирог.
Катя болтала ногой, сидя на детской карусели, жевала пирог. Прислушивалась чутко. Вот такие пироги… вот такие пироги с котятами, золотца моя…
– Вроде тихо, – сказал Басов, заметив, что она смотрит на открытое окно в его квартире. – Он как-то раз к нам с матерью приезжал. Я тогда еще в школе учился. Сначала тоже ничего. Целовались. А потом такая война грянула. Мне самому под горячую руку от матери порой достается. Лупить она всегда мастерица была – еще в школе, чуть что – подзатыльник. А уж папаню… после стольких-то лет его подполья.
Катя с тайным восторгом, как в театре на задернутый перед началом спектакля занавес, смотрела на кружевные занавески в окне, каждую секунду ожидая, что дворик огласится грохотом бьющейся посуды и страстными криками: «Ах ты, лысая сволочь! Наконец-то явился!»
Но кружевная занавеска, окно, тополя, карусель хранили лукавую тишину. Вокруг становилось все больше света, все меньше теней. И если это и был конец одной истории, значит, наступала очередь истории новой.
ИВС – изолятор временного содержания.