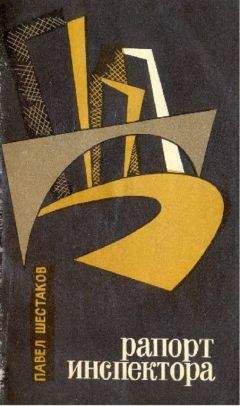На самом же деле Ольга часто испытывала беспокойство. Мир непрерывно поражал ее ненужными, как ей казалось, искусственными сложностями. Недоумение это шло от молодости, от недостатка познаний и жизненного опыта, от завидного здоровья, наконец, но тем на менее Ольге было всегда непонятно, отчего люди так редко ощущают себя счастливыми, зачем изводятся лишениями, чтобы пробежать на рекорд сотню метров или приобрести какую-то ненужную вещь только потому, что ее уже приобрел сосед, зачем губят время и жизненные силы за учебниками, стремясь поступить в институт, хотя учиться не хочется, а на небе светит солнце и дует в лицо свежий ветер.
Последний вопрос был для Ольги не умозрительным. Еще когда сдавала она приемные экзамены, познакомилась в институте с парнем. У парня оказалась незавидная фамилия — Редькин. Он тоже сдавал. Но чувствовали они себя по-разному. Ольга спокойно, зная, что пройдет, а Женька боялся, и не напрасно. Срезался.
Был он зол и убит горем.
— Ты-то как проскочила? — спросил недружелюбно.
— У меня разряд, — ответила она честно.
И тут он сорвался.
— Сволочь! — выкрикнул прямо в лицо с такой озлобленностью, что Ольга почувствовала все его отчаяние, но что ответить от обиды не нашлась.
Пробормотала только:
— Дурак.
Приятным такое знакомство, конечно, не назовешь. Они разошлись и позабыли о своей стычке, как и вообще друг о друге, но через год, когда Ольга уже давно работала в поликлинике, шла она случайно институтским сквериком в ту же самую экзаменационную пору и увидела на скамейке Женьку, такого же серого, убитого, как и год назад.
— Здравствуй, — сказала она и присела рядом, подчиняясь инстинктивному стремлению прийти на помощь.
Он тоже узнал ее, не удивился, не вспылил, а ответил придавленно:
— Здравствуй.
— Опять поступаешь?
Спрашивать было глупо, у него все было написано на физиономии.
— Опять провалился.
Что тут скажешь! Помолчали.
— Зачем села? — спросил он первым.
— Жалко тебя, — искренне ответила Ольга.
— Шла бы ты своей дорогой, студентка.
— Да не студентка я, — обрадовалась она возможности сказать ему что-то приятное.
Он и в самом деле оживился:
— Выгнали?
— Сама ушла.
Женька прямо развеселился:
— Сама? Скажи, способности проявились!
Ольге стало обидно:
— Способности у меня не хуже других.
— Чего ж ушла? — спросил он с любопытством.
— Не понравилось, — ответила она кратко, не желая вдаваться в подробности. — А ты-то что рвешься? Призвание?
Ответ ее удивил.
— Мать меня просила. Очень она хотела, чтобы у меня диплом был. Понимаешь? Умерла мать.
Ольгины родители к высшему образованию относились проще. Отец на известие, что ушла она из института ответил в письме так: «Конечно, дочка, сейчас народ образованию стремится, но не всем же в конторах сидеть, а денег образованные не больше нас зарабатывают. Потому смотри сама, а мы с матерью думаем — лишь бы по душе занятие нашла».
Поэтому в первопричины Женькиного горя проникнуть Ольга не могла, но то, что парень мучается, было ясно. И ясно было, что нужен ему человек, чтобы в тяжкий день поддержать и утешить.
Так получилось, что из скверика ушли они вместе и через час поднимались в лифте на девятый этаж нового дома у самой городской черты, где больной матери Редькина исполком выделил небольшую квартирку, как имевшей право на преимущество в очереди.
Особого комфорта в Женькиной квартире Ольга, понятно, не ждала, однако невольно присвистнула с порога, когда увидела, как запустил он свое жилье.
— Веник у тебя где? Щетки? Тряпки?
— Зачем это?
— Свинюшник прибрать.
— Зачем?
— Противно.
— Ну, если твое эстетическое воспитание не позволяет.
Завалившись на продавленный старый диван, он искоса наблюдал, как она орудует шваброй. Свежий воздух проник в давно не открывавшееся окно. Ольга протерла стекла, вымела, перемыла грязную посуду, а он все лежал и молчал.
Наконец она закончила и, вытирая руки, сказала:
— Работника кормить положено.
Женька поднялся, вытащил из холодильника колбасу. В фанерном ящичке из-под посылки нашлась на кухне старая, проросшая картошка. Пока Ольга жарила все это с луком, он спустился в магазин, принес бутылку дешевого вермута. Ей пить не хотелось, но Женьке посоветовала:
— Выпей. Полегчает немного.
И за компанию сама пригубила.
Женька быстро захмелел, страдания размягчились в нем, он начал рассказывать о себе многословно, путанно. Ольга слушала терпеливо, сама больше кивала, сочувствовала, понимая, что ему выговориться нужно, а не советы слушать. Да и к советам ее он не был готов, потому что опять и опять повторял свое:
— На тот год расшибусь, а пройду.
— Может, не стоит.
— Как так? Что ж я, второй сорт, по-твоему?
— Почему второй?
— А потому, что будь ты студентка, так не мела бы здесь комнату.
Логика этого ответа была только одному ему понятна, и Ольга спор отложила. Стемнело незаметно.
— Отдыхай, Женя. Побегу я. Пора.
— Куда ж ты?
— Пора, — повторила она неуверенно.
Оставаться опять наедине со своими горестями ему было страшно, но как удержать Ольгу, он не знал. Попросил только:
— Не уходи.
И она осталась.
Утром Женька по-детски долго тер ладонями глаза.
— Это ты?
Видно было, что, как повести себя, он не знает. Ольга взъерошила ему волосы:
— Отвернись. Я одеваться буду.
Женька послушался, повернулся к стенке, но лежал напряженно, о чем-то думал.
— Понимаешь, — сказал, наконец, глядя, как она причесывается, держа шпильку в губах, — понимаешь, я ведь не могу сейчас жениться.
Она даже шпильку выпустила, уронила.
— Неужели? А я-то в загс собираюсь.
И ушла, оставив его в недоумении.
Дней через десять Ольга увидела Женьку на другой стороне улицы, когда выходила из поликлиники.
— Оль!
— Привет.
— Ты куда?
— А в чем дело?
— Поговорить бы нужно.
— Насчет женитьбы, что ли?
— Не обижайся.
Забегая вперед, он старался заглянуть ей в глаза, она шла себе, как обычно, не ускоряя и не замедляя шага. Ей было приятно, что он пришел и смотрит вот так, по-собачьи, но она не знала, что с ним делать.
— Ну, что у тебя?
Он толкнул встречного прохожего, потому что не смотрел вперед, и тот обругал его. Ольге снова стал» жаль этого неловкого Женьку, а он, спеша, говорил на ходу:
— Ты должна знать. Ты спасла меня тогда.
Наверно, слова эти он подготовил заранее, но они трогали, и ей стало неловко.
— Ну уж и спасла. Выдумываешь.
— Нет, нет. Я, знаешь, из окна хотел. Она остановилась:
— Спятил?
— Нет, правда. Ты должна знать. Я не хочу, чтоб ты считала.
— Да не считаю я ничего.
— Ты понять должна.
— Что ты жениться не можешь? И засмеялась первая.
Так у них возникли отношения, в которых перемешались случайность и жалость, участие и признательность, так и не определившиеся отношения не влюбленных, но нужных друг другу людей, отношения, в которых Ольге страсть заменяла прирожденная потребность сильного опекать слабого. Она не могла не чувствовать, что взятая ею роль не проста и не всегда успешна, что при всей нужде в ней и благодарности Женька не только не может, но и не хочет связать себя прочно, постоянно, что опека тяготит его, как и каждого слабого человека, сознающего свою слабость, страдающего от этого и мечтающего проявить себя с иной стороны, доказать противное. Потому нежность и признательность сменялась в нем то угрюмой хандрой, то оскорбительной заносчивостью, и тогда Ольга обижалась, уходила. Но совсем уйти не могла, мешала навязанная самой себе ответственность за незадачливого парня, с которым свела ее судьба в лице институтской приемной комиссии.
Тогда еще, в конце лета, после второго провала, оглядев Женьку как следует, Ольга решила категорически:
— Нужно тебе, Женя, отдохнуть. Экзамены с тебя полчеловека сделали, да и тот на ладан дышит.
— Возьму шезлонг напрокат, буду на балконе воздухом дышать. Вид у нас с верхотуры замечательный. В бинокль можно свиней разглядеть в пригородном совхозе.
Говорил он с неприятной усмешкой, чуть перекашивающей рот.
— Поезжай на море. Недельки на две. Женька скорчил уже сознательную гримасу:
— Я не ослышался? Прошу только море уточнить, Средиземное? Ницца? Копакабана?
— Наше море, обыкновенное.
— Это меня не устраивает. Хочу на Гавайские острова. Всегда останавливаюсь в Хилтон-отелях.
— Перетерпи разок. У меня есть хозяйка одна знакомая. На самом берегу домик.
— Она его за красивые глаза сдает?
— Я одолжу тебе.