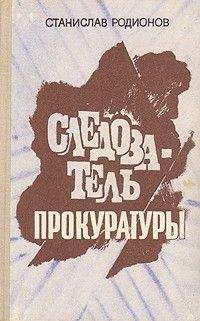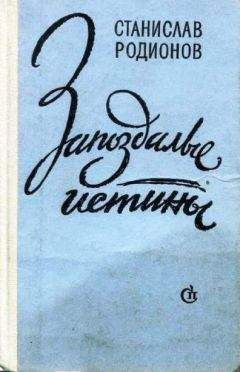Эдик отрицательно помотал головой; ему не хотелось разговаривать.
— Подойдёшь к ней, размахнёшься и ударишь ножом — она даже вздрогнет…
— Кто? — хрипло спросил Эдик, замедлив шаг и повернув к Суздальскому свои огромные очки.
— Берёза. Вздрогнет и брызнет соком, как человек кровью. Тогда можно пить.
Эдик откровенно поморщился и пошёл быстрее, стараясь оторваться от собеседника. Но Суздальский не отставал.
— Вы шокированы сравнением, мой юный друг. Выражусь иначе: ударишь ножом, и брызнет сок, как из треснувшего арбуза. Приятнее, верно?
Эдик молчал. Зачем он просидел с этим человеком всю ночь, не сомкнув глаз? Кто он ему: друг-приятель, хороший человек?… Неприятный сослуживец, с которым в поле он старался не ходить даже в один маршрут. И чего теперь идёт вместе с ним, когда ему пора свернуть вправо и шагать в другую сторону от Суздальского?
— Дымо-о-ок! — заблеял Ростислав Борисович и подтолкнул Эдика к костру из прошлогодних веток и листьев.
Рабочий парка помахивал лопатой, но костёр не горел, захлёбываясь в дыме. Суздальский сунулся в самый столб, закашлялся своим скрипучим кашлем, отдышался и спросил:
— Эдик, а почему вы просидели рядом всю ночь?
— Померанцев просил, — вяло ответил Горман.
— Неправда, Эдик. Вы просто очень вежливый, очень деликатный. Таких сейчас наперечёт. — И Суздальский рассмеялся сдавленным хохотком.
Горман даже глянул на него: от дыма кашляет или смеётся так?
— Мне туда, — буркнул Эдик, махнув в правую сторону.
— Что-то я вам хотел сказать… — Суздальский остановился и взял его за пуговицу.
Горман ждал, рассматривая жёлто-отёчное лицо, на которое теперь лёг заметный зеленоватый оттенок, словно отсвечивали осины. Чёрные глаза смотрели на Эдика тускло, будто туда попал дым от костра.
— Я хотел вам сказать, что Симонян умерла, — тихо произнёс Суздальский.
— Я знаю, — удивился Горман.
— Нет, вы не знаете, — убеждённо тряхнул головой Ростислав Борисович.
— Я же был на похоронах, — недовольно возразил Эдик.
— Да, были, — подтвердил Суздальский. — Как теперь говорят, вы получили информацию о её смерти. Но вы не знаете, что она умерла, потому что не знаете, что такое смерть.
Он испуганно глянул по сторонам, привстал на цыпочки и шепнул в ухо:
— Её больше не будет никогда, понимаете, ни-ког-да…
Суздальский отпрянул, застыв взглядом на Эдиковых очках. Горману показалось, что в уголке глаза Ростислава Борисовича набухла чёрная слеза, будто выточенная из антрацита. Суздальский болтнул головой — и никакой слезы, ни чёрной, ни белой. Конечно, показалось, да и не бывает чёрных слёз.
— Прощайте, Эдик, — сказал Суздальский и уже пошёл, но вдруг обернулся: — Пьяным я ничего не говорил?
Глаза смотрели строго, без дымки, сухо поблёскивая.
— А что вы могли говорить?
Ростислав Борисович махнул рукой и неровно двинулся по утренней аллее, загребая ладонями, словно поплыл в светлом дыме весеннего костра.
Прокурору Рябинин доказал, что проверить подозрение можно только следственным путём. Дело возбудили по сто седьмой статье как доведение до самоубийства, — вешать на район «глухое» убийство не решились. Статья тут была несущественна, лишь бы начать следствие.
И Рябинина сразу заполнило беспокойство. Он долго не мог, понять, откуда оно ползёт. Мало ли он возбуждал уголовных дел! И догадался — место происшествия. Какое-то тёмное пятно там, где его не должно быть. Пришлось выехать на квартиру Симонян с повторным осмотром.
Его он нашёл сразу, удивившись человеческому сознанию, которое запомнило и где-то отложило впрок, словно предвидело, что он вернётся. Рябинин подошёл к вазе чешского стекла. На дне лежала щепотка серого пепла. Видимо, пепел табачный, хотя для папиросы или сигареты его многовато. Петельников определил бесспорно — трубочный: сам недавно бросил курить трубку.
Симонян и её сестра не курили. Значит, посторонний, мужчина, очень неаккуратный — пепел в красивую вазу. И хороший знакомый, коли решился на такую вольность.
Рябинин вызвал по телефону первого свидетеля и теперь ждал, размышляя о пепле, авторучке и записке.
Анна Семёновна Терёхина вошла неуверенно, села на край стула, прижимая к груди большую хозяйственную сумку.
— Садитесь поудобнее. — Рябинин вежливо улыбнулся.
— Меня, наверное, вызвали по ошибке, — убеждённо сказала она, слегка центрируя тело, но оставалась скованной, как перед фотографом.
Рябинин смотрел в её круглое лицо и старался быстро определить, о чём можно побеседовать с этой женщиной, — он никогда не начинал допроса с существа. Да и захоти — не начнёшь, потому что не было никакого существа.
— Давно ездите в поле? — спросил он, надеясь на цепную реакцию беседы.
— Давненько. Уж надоело. Детей бросаешь, хозяйство бросаешь.
— Да какое в городе хозяйство, — усмехнулся он.
— Как это какое! — оживилась она и даже слегка обмякла, скрипнув стулом. — Женщина-нехозяйка — это не жена, а любовница. Семья сильна хозяйством.
— Что у вас — корова стоит в кухне? — поддел Рябинин, чувствуя, что нашёл верную тему. — Или вы хлеб печёте по утрам?
— Да я всё делаю по утрам! И по вечерам делаю. У меня приправы, соленья, варенья всю зиму. Я огурцы свежие сохраняю зимой по собственному рецепту. Знаете, какие у меня пельмени? Каких и в Сибири нет. Я колбасу делаю дома. Мне для колбасы из деревни прислали километр бараньих кишок…
— Сколько?
— Один километр в стеклянной банке. А вы говорите — корова.
— Ну, знаете, таких женщин немного, — отмахнулся от её слов Рябинин.
— Конечно, не всё, но много, — не согласилась она.
— Ну вот в вашей группе много таких?
— Откуда же. Вега Долинина не замужем. Симонян тоже была незамужняя.
Вспомнив Симонян, Терёхина всхлипнула не всхлипнула, но как-то у неё перехватило дыхание.
— По-вашему получается, — осторожно заметил Рябинин, — что эти две женщины плохие, если не делают колбасу?
— Я этого не говорила, — удивилась она. — Например, Вега очень строгая девушка.
— А Симонян?
— Это была порядочная и честная женщина, — вздохнула Терёхина. — Вот личная жизнь была не устроена…
Рябинин знал, что личной жизнью частенько называли замужество или женитьбу. Пиши по вечерам книгу, занимайся после работы фотографией, собирай в свободное время марки или лови ночью бабочек; в конце концов, вари по выходным колбасу в километровой кишке — никто не назовёт это личной жизнью. Но стоит побежать на свидание, как единодушно решат, что у человека появилась личная жизнь.
— А почему не устроена?
— Без любви она бы ни за кого не пошла. А любовь найти непросто.
— И ни с кем она не дружила?
— Я не замечала.
— Не могла же она быть одна? — удивился Рябинин и подумал: разве он спросил бы об этом, не будь допроса? Но сейчас нужно подойти к памяти свидетельницы, к её личности, как к неизвестному замку со связкой ключей.
— Почему же не могла? — удивилась Терёхина.
«Правильно, — подумал Рябинин, — сейчас она должна сказать, что немало женщин-одиночек».
— А сколько женщин без мужей?
— Это верно, — подтвердил он и пошутил: — От мужей одна грязь.
— И не говорите, — сразу согласилась она. — Им чем грязнее, тем лучше.
— У вас в квартире, наверное, чистота. И закурить не разрешите, а?
— Выгоняю мужа на балкон.
— А как же на работе?
— У нас только один курящий, Суздальский. Уходит со своей трубкой в коридор.
Словоохотливость и непосредственность — желанные спутницы допроса. Рябинин допрашивал шутя, без всякой затраты нервной энергии, словно ехал со знакомой в трамвае.
— Кто-то мне сказал, что некурящий мужчина что вымоченная селёдка, — сообщил он придуманную наспех несуразность.
— Глупость какая, — заключила Терёхина.
— А вот женщины любят курящих, — не согласился Рябинин. — Наверняка вашего Суздальского любят больше, чем…
Рябинин не кончил фразы, потому что Терёхина громко рассмеялась, будто следователь удачно сострил.
— Его терпеть не могут, — отсмеялась она.
— Такой уж он плохой?
— Суздальский… может, и не плохой, но… дикий. Не плохой, но ужасный. Всё у него не по-человечески. Демон, короче.
— Так уж все его не любят, — усомнился он. — А Симонян? Она же добрая…
— Симонян его просто не терпела.
— А он её?
Терёхина чуть задумалась: говорить или не говорить, но хороший, добрый контакт и словоохотливость победили легко.
— Нельзя сказать, что он в неё влюблён… Любить-то он не умеет, где ему! Но какое-то подобие, вроде симпатии, у него шевелилось.
— А Симонян?
— Да плевала она на таких.