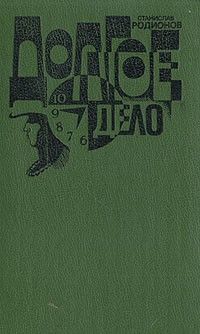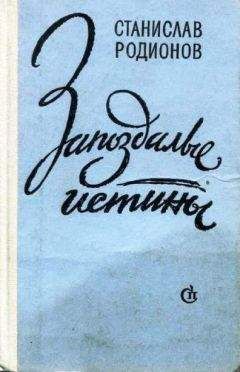— Веруша, как ты ко мне относишься?
— Такой вопрос…
— Понимаю, что искренний ответ на него получить трудно, но я спрашиваю не из праздности.
— Очень хорошо отношусь…
— Ещё бы, я твой шеф, — усмехнулась Калязина.
— Бывает, что и шефов не любят.
— Редко. Интерес друг к другу, милочка, определяется социальным положением людей. Кто выше, тот и лучше. Для подчинённого начальник всегда интересен, а для начальника подчинённый почти никогда не интересен.
— Значит, я вам не интересна? — решилась Вера на вопрос.
— Милочка, тогда бы я не пришла.
— А я вас уважаю больше всех.
— Больше всех, Веруша, уважать надо только себя.
Калязина польщённо улыбнулась.
Иметь последователен, учеников, школу — не мечта ли?
— А как ты, милочка, относишься к органам внутренних дел?
— К милиции? Никак. Хотя… — замялась Вера.
— Что «хотя»?
— Она жизнь мою испортила.
— Каким образом?
Вера украдкой глянула на фотографию молодого человека с напыщенными усиками.
— Я Вам не сказала… Муженёк мой сидел.
— И за что?
— Он был директором склада. Приехала однажды ревизия, а у него в бочках вместо подсолнечного масла вода. В мешках вместо сахарного песка речной. Посадили, ну а потом он ко мне и не вернулся…
— Вот, милочка, и мне милиция жизнь портит.
— Я об этом читала в газетах, но так и не поняла, за что.
— За что? — воодушевлённо удивилась Калязина, доставая сигареты. — За что…
День светлел — он то светлел, то темнел. Сейчас вот светлел. Осеннее солнце прощупывало космы тумана неуверенными лучами. Без четверти три, а день посветлел. Туман, как дым, испуганно поднимался к небу. Возможно, что через пятнадцать минут у неё появится ассистентка не только для сверхчувственных опытов. Как только пробьёт три и весь туман уйдёт в небо.
— Веруша, нужно жить так, как считаешь нужным.
— А я ничего не считаю…
— Тридцать два года. А пришло к тебе то, что должно прийти к женщине в тридцать два?
— Я и не знаю, что должно прийти к женщине в тридцать два. Замужество?
— Есть у тебя украшения, натуральные, разные, каждый день новые? Есть у тебя одежда, не синтетическая, не копеечная, а шёлковая, цигейковая, норковая? Есть у тебя просторная квартира с заказной мебелью от «Интуриста» и телефоном в ванной? Деньги, есть у тебя деньги, не зарплатные, не рублёвочки с троечками, а свободные, несчитанные? А есть ли у тебя друг с сильными и нетерпеливыми руками? И в конце концов, есть ли у тебя напитки, вселяющие любовь, радость и фантазию? Я имею в виду ликёр, ром и коньяк…
— Такую жизнь я видела только в кино.
— А всё, милочка, должно приходить в своё время. Мужчина и деньги в пятьдесят лет нужны? Да. Но это совсем не то, что мужчина и деньги в двадцать — тридцать.
— Ко мне всё опаздывает или вовсе не приходит. Телефон и тот звонит, когда я уже звонка и не жду.
Аделаида Сергеевна посмотрела на часы — ровно три. И туман высох.
— Веруша, я помогу: твой телефон будет звонить вовремя.
От просветлевшего ли дня, от горячего ли кофе, от выпавших ли надежд, от всего ли вместе лицо ассистентки скинуло обычную пугливую сухость и порозовело, как яблочко, высвобожденное из тени.
— Аделаида Сергеевна, дайте сигарету…
Закурила она со вкусом, глубоко. И порозовела ещё больше, вместе со своим изящным носиком.
— За что? — переспросила Калязина, возвращаясь к задевшему её вопросу. — А кто я, по-твоему?
— Учёная…
— Официально я врач-эпидемиолог, работающая на полставке в Лаборатории психологии. А неофициально?
— Известный парапсихолог.
— А неофициально я — ведьма.
— Как «ведьма»? — засмеялась Вера.
— Парапсихология у нас идёт за чертовщину. И если человек ею занимается, то кто он? Раньше таких, как я, жгли на площадях на медленном огне. Теперь меня сжечь как-то неудобно, вот и пришили уголовное дело.
— Убийство?
— Нет, кражу бриллианта из магазина.
— Разве там украдёшь?
Аделаида Сергеевна улыбнулась материнской улыбкой:
— Думала, что застану у тебя мужчину. Не понимаю, почему они тебя не осаждают. Молодая женщина, у которой сексуальные формы сочетаются с наивностью, для них приятнее коньяка.
— Я допустила бестактность? — опечалилась Вера.
— Нет, ты допустила глупость, — пошутила Калязина и посмотрела на часы: двадцать минут четвёртого. — Милочка, вызови мне такси…
Пока хозяйка названивала, Аделаида Сергеевна прохаживалась по комнате, разминая уже отдохнувшие, уже засидевшиеся ноги.
Проверка почти кончилась. Мерзлотная тревога обтаяла, потеряв свои угластые очертания. Нет, не пропала и не должна пропадать, потому что тревога — это страж здоровья. На неё, на Калязину, нужны Петельниковы, как волки для популяции зайцев. Рябининых не считаем, покойники не страшны. Петельниковы, то есть волки, догоняют зайчишек слабеньких и задумчивых. Как вот этого молодого человека с пустым взглядом и вздорными усиками, заливавшего в бочки воду вместо подсолнечного масла…
— Аделаида Сергеевна, машина пришла.
Калязина выбросила окурок в форточку, надела плащ и повязала старушечий платок.
— Милочка, запомни наш разговор. И не носи этих тяжёлых стародамских бус. Они похожи на перетянутую кишку. До вечера…
Она поехала домой, куда такси добиралось сорок минут, — не езда, а дежурство у светофоров. Рассчитавшись с водителем, Аделаида Сергеевна вошла в парадную, достала ключи, открыла свой почтовый ящик и достала письмо. Прилипший волосок цел, конверт не вскрывали. Теперь его можно и порвать. Раисе Фортепьянцевой оно ни к чему, поэтому кто-то услужливо его забрал и опустил в ящик. Кто-то…
Из дневника следователя (на отдельном листке).
Вадим прав, помогает от нервов.
Хочу в сосняке раствориться,
Шишкой упасть на заре,
Медовой смолой прослезиться
И каплей застыть на коре.
Но мгла, как лихая забота,
Ложится на душу мою…
Опять под ногами болото,
В котором безвольно стою.
Добровольная исповедь.
Чем прекрасно детство? Запретными плодами. Ждёшь, когда вырастешь и начнёшь их рвать. В конце концов, жизнь — это срывание запретных плодов. Есть люди, вроде моей ассистентки, которые предпочитают жевать кислые яблочки, забывая, что в запретных плодах много витаминов. Кстати, запретный плод сладок не потому, что он запретен, а потому, что он сладок.
После телефонных звонков ноющий жгут отпустил грудь. Сам, без лекарств, после телефонных звонков. Но Рябинин всё ещё прислушивался к уходящей боли, не веря, что она уходит.
И промелькнуло, исчезая…
…Наше сознание всю жизнь с удивлением прислушивается к умирающему телу…
Что-то промелькнуло. Ожил, заработала голова, ушла боль — ожил. Отлегло. Хорошее слово — «отлегло». На Рябинине лежало, давило, и вот отлегло. Можно чем-нибудь заняться. Например, думать о смысле жизни впереди долгое утро, и никто не мешает. Рябинин тяжело вздохнул и замер у окна, как у края поздней сентябрьской ночи.
Ветерок — холодный, чёрный, с мелкими брызгами — ложился на лицо, как лёд на обожжённую кожу. Сколько он так может дуть — час, два, до утра? Рябинин забыл часы, измеряя теперь время перепадом ветра, силой дождя и кратким светом иногда загоравшихся окон в далёком доме. Как он, Рябинин, сейчас видится оттуда, из тьмы? Посреди чёрной ночи, посреди чёрного дома, посреди яркого проёма окна стоит человек… Кто же он?
А кто он? Мужчина, скоро будет сорок, глава семейства, следователь прокуратуры. Все мужчины, всем будет сорок, все имеют семью и специальность. Что он дал государству? Расследовал несколько сотен уголовных преступлений. И только-то? Не выращивал хлеб, не плавил сталь, не рубил уголь… Не воевал, не совершил подвига… А что он дал жене? Слёзы и бессонные ночи. Она и сейчас не спит, конечно, не спит. А что он может дать Иринке — что может дать отец, который вечером ещё на работе, а по выходным на дежурстве? Что он дал друзьям, кроме редких бесед? И что он дал людям? Тогда откуда же у него право спорить, не соглашаться, учить, бороться? Он часто спорит… Получается, что всегда считает себя правым? Но если человек всегда прав, наверняка он не прав в чём-то Главном, в самом Главном. В чём же не прав он?
И промелькнуло, исчезая…
…Уступать человеку… Не то же самое ли, что и делать добро?..
Он не прав, потому что ищет врагов, а не союзников. Вместо борьбы нужно стучаться в человеческую душу. Он же спорит и спорит — с прокурором, с Васиным, с Вадимом, с женой. Довёл Лиду до страшной мысли, чуть ли не до измены. Но ведь он жалостлив. К кому — к преступникам, к посторонним, к прохожим? А к друзьям и сослуживцам?