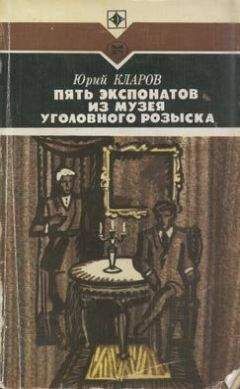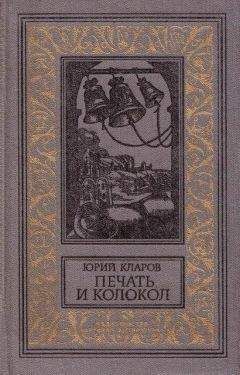Мы спускаемся в лифте на третий этаж и тихонько заходим в квартиру. Я веду Лору в ванную комнату, снимаю с нее кофточку, юбку, нижнее белье, ставлю под душ и мою. Через минуту слышу оклик матери:
— Ген, ты?
— Да, мам, — отзываюсь я.
— Ужин на столе. Подогрей только, — говорит она. — Пойду спать, чувствую себя что-то плохо.
— Хорошо, мам, иди. Я все сделаю. Спокойной ночи, — отвечаю я.
После душа щеки Лоры начинают приобретать нормальный цвет, и она уже сама всовывает руки в халат матери, который висел тут же в ванной. Я веду Стопарика в нашу мальчишечью комнату и укладываю на свою кровать. Ни Валера, ни Володя и ухом не ведут. После чего я возвращаюсь в ванную, старательно стираю кофточку, юбку и белье своей спасительницы, а затем все вывешиваю на балконе.
На последнем издыхании я втаскиваю в комнату раскладушку, ставлю рядом со своей кроватью, кладу на нее матрас, бухаюсь на него и мгновенно отключаюсь. Просыпаюсь я от шлепков по щекам. Надо мной Лора.
— Вставай, пошли, — шепчет она. — На работу опоздаешь.
Стопарик уже одета. «Молодец, нашла свою одежду», — хвалю я ее про себя и трогаю у нее юбку — влажная. Я торопливо натягиваю брюки с рубашкой, прячу в чуланчик раскладушку с матрасом, и мы выскакиваем на улицу. Шесть утра — показывают часы у гастронома. Через сорок минут мы в каморке Лоры. Я споласкиваю лицо под рукомойником, выпиваю стакан кефира с белым хлебом и поднимаюсь:
— Мне пора.
— Я с тобой. Я боюсь. Теперь я тоже приговоренная, — нажимает на последние слова Стопарик. — Только знай, не из-за тебя я его… Он издевался надо мной, бил меня, продавал кому ни попадя!
После некоторого раздумья я соглашаюсь:
— Да, ты идешь со мной. Переодевайся и укладывай вещи.
Я сажусь за стол и пишу письмо дяде Кириллу, сообщая ему, что Лора мне очень дорога, но ей негде жить. Так, мол, сложились обстоятельства: у нее вытащили из сумки документы, и я прошу приютить ее, а если можно, то и устроить в колхозе на работу.
Вначале мы отправляемся на завод. Я отпрашиваюсь у мастера с работы, и мы едем на Курский вокзал. Я беру билет до Орла. Поезд уходит через два часа, и у нас вроде бы есть о чем поговорить. Но мы почему-то молчим. Сидим и молчим, как два идиота. И что интересно, хоть мы и не говорим, но два часа пролетают как одна минута. Наконец мы идем к ее вагону. Я передаю ей письмо для дяди, его адрес, а в ладонь ей кладу кольцо с бриллиантом и серьги:
— Ты там будешь в полной безопасности. А кольцо и серьги продашь, если будет тяжко.
И в этот миг какая-то сила толкает нас друг к другу. Мы обнимаемся и рыдаем. Нет, мы не плачем, мы действительно рыдаем. Сквозь слезы Стопарик протягивает мне сверток:
— Возьми валюту. Мне ее держать все равно при себе нельзя, еще попадусь.
Я машинально сую сверток в карман. Поезд трогается. Лора вскакивает на ступеньку вагона и стоит на ней, глядя на меня, пока проводник не втягивает ее в тамбур.
Дома на вопрос матери, кого я ночью приводил, я отвечаю, что девчонку из заводской самодеятельности. Мол, за городом живет, а на электричку опоздала.
Уже темнеет, когда я вхожу в Парк культуры и отдыха имени Горького. Сегодня здесь состоится наше первое фестивальное представление. Я приглашал на него Свету, но она, сославшись на неважное самочувствие, отказалась… Я думаю, из-за Тамары. Иду по аллее один. И понимаю, что мне плохо без Стопарика. Я к ней как-то привык, привязался.
Подхожу к пруду. Посреди его сценическая площадка. Завод ее два месяца строил. И вот она передо мной. Настроение мое поднимается.
«А чему, собственно, я радуюсь? — уже через мгновение злюсь я. — Кто я в этом представлении? Никто! А сколько я сил вложил с ребятами в наладку и подгонку механизмов этой махины. Ведь то, что сотворили мы, уму непостижимо».
Заводчане завершают последние технические работы и убирают со сцены кабели, обрезки металла, инструменты. А вот и мой враг. Профессиональный певец, как же его звать-то? Вроде бы Гоша. Он ругается с осветителем. Я подхожу к ним.
— Ген, — кидается ко мне светотехник, — скажи ты этому Гоше, что мы любую точку на сцене осветим, где бы он ни стоял. Объясни ему, что мы совмещаем свет и движение сцены.
— Это так, — подтверждаю я слова осветителя. — Пойдем, я покажу тебе всю механику.
— А можно? Знаешь, это очень интересно. Я думаю, нигде в мире таких подмостков нет, — тараторит тенор, спускаясь за мной под сцену.
— Вот здесь, — объясняю я, — сидит механик. Видишь, у него полная схема оборудования, которое наверху. И он выполняет все команды главного режиссера и его заместителей. Естественно, все команды даются по телефону. Рядом с ним электрик. Они работают синхронно. Теперь пойдем дальше. — Так я провожу его по всем наиболее интересным объектам. И наконец подвожу к люку, который ведет к винтовым опорам. Это уже под водой. Они необходимы для выравнивания всего сценического пространства. Там даже электрического света нет. — Спускайся, — говорю я ему. Он спускается. Я закрываю люк, защелкиваю его механическим замком и смотрю на часы. До начала представления минут двадцать. Гоша кричит, стучит, но я, не обращая на это внимания, ухожу. Мне надо незаметно надеть его сценический костюм и вступить в действие. Я так и делаю.
Вдоль аллеи и вокруг пруда гаснет свет. Сцена в полной темноте. В этот момент открывается кабина яйцеподобного аппарата и мы с Тамарой залезаем в него. Внутри аппарата тоже темно, и Тамара не догадывается, что с ней я, а не Гоша. Факельщики начинают возжигать костры. Сквозь иллюминатор я вижу, как пламя костров поднимается вокруг пруда все выше и выше. Над аллеей с двух сторон вспыхивают разноцветными огнями одно за другим подсвеченные деревья, а потом взвиваются огненные фонтаны фейерверков.
Мощный толчок, и наш аппарат взмывает в ночное небо. Кабина открывается, и я с помощью телескопического стержня поднимаю над собой красное полотнище. Оно развевается над ходящим по огромному кругу космическим кораблем с надписью на борту, состоящей из четырех букв — СССР. Крики восторга, бурные аплодисменты сопровождают наш с Тамарой полет.
Снова полная темнота. Мы выходим из кабины на самую верхнюю площадку, а аппарат скрывается под сценой. И вновь по аллее катится яркий свет и растекается вокруг пруда, словно расплавленное золото. Это выбегают заводские спортсменки с горящими булавами. Гимнастки приводят публику в неистовый восторг. И еще не утихают аплодисменты, которыми награждают зрители спортсменок, а уже катится новая волна оваций. Строение над прудом озаряется сказочным светом и превращается во дворец. Он то голубой, то зеленый, то фиолетовый, то оранжевый, то переливается всеми цветами радуги. А вода в пруду становится огромным колыхающимся цветным ковром. Высоко в небо летит многоголосое «ура!».
Свет прожекторов притягивает взоры зрителей к нам с Тамарой. Наконец она видит, кто с ней! Но ни возражений, ни гнева не выказывает. Вступает оркестр. Он исполняет мелодию, которую я слышал в деревне. И я испытываю странное чувство единства вечности и мгновения. И тысячелетия и миг у меня в одной песне. Хрустальное сопрано Тамары органично сливается с уже заявленными мною интонациями и образами. И все это вбирает в себя хор. Пауза, а затем глухой звук барабана и волынки.
Космическая тема вписывается в общее действие представления, обрамляя его. Люди поднимаются с кресел и берутся за руки. Музыка их забирает в свое лоно.
Сразу же после окончания «Небесных экскурсий» я выпускаю Гошу из темницы. Ожидаю крика, жалоб. Я даже не обиделся бы, если бы Гоша дал мне в морду. Но он обнимает и целует меня.
— Ты знаешь, Ген, я там внизу все слышал! — восторженно говорит артист. — Я бы никогда так не спел. Не потому, что у меня голос не тот. Нет! У меня сердце не то. Ты чувствуешь, о чем поешь. А я, как попугай, твержу заученное. В общем, брат, если тебя начнут пытать, говори смело, что я отказался выходить на сцену.
— Гоша, спасибо тебе! — с неожиданно выступившими на глазах слезами благодарю я. После этого представления мы работаем каждый вечер, пока идет фестиваль. И каждый вечер у нас аншлаг. Я на подъеме, хотя и трудно выходить в утреннюю смену на работу.
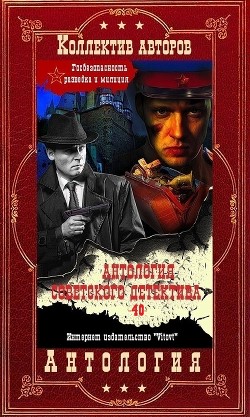

![Юрий Кларов - Пять экспонатов из музея уголовного розыска [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/181018/181018.jpg)