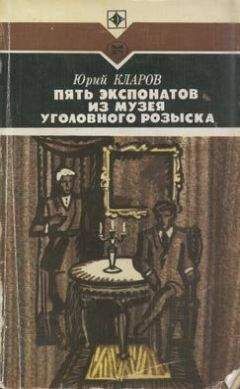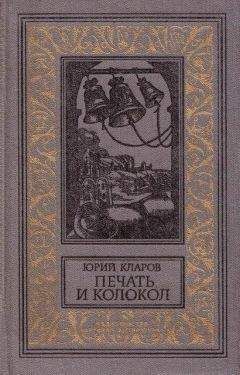— Давайте, ребята! — кричит, выглянув из кабины, летчик. — Быстро, пока окно не затянуло. Счастливо!
Но Воробьев, который по договоренности должен прыгать первым, как назло, что-то мешкает. Секунду помедлив, я вываливаюсь из самолета и мгновенно захлебываюсь наотмашь бьющим морозным ветром и чувствую холодную пустоту в желудке. Я отсчитываю секунды и дергаю кольцо. Резкий удар в воздухе, и я как будто зависаю, застываю на одном месте, успев, однако, поймать взглядом уплывающий самолет.
Я благополучно приземляюсь вместо стартовой площадки Алмаза на поляну, окруженную неприветливыми и сумрачными елями и пихтами. Вот тебе и задержечка старшего лейтенанта! Вот во что вылилась! Надо думать, как отсюда выбираться. И тут я замечаю самого взводного. Он возится с парашютом на краю поляны. Я с криком «Товарищ старший лейтенант!» бросаюсь к нему, проваливаясь по пояс в снег. Воробьев поднимает голову и какое-то время молча, со злобой смотрит на меня, а затем, усмехнувшись, медленно скрывается в темно-зеленом пологе мохнатых лап-ветвей, оставляя в снежном покрове глубокую борозду. И хотя сердце мое замирает при одной только мысли, что я окажусь в этой страшной зимней тайге один, я останавливаюсь. «Что, кроме ненависти, может испытывать ко мне взводный? — спрашиваю я сам себя. — А история-то более чем банальная…»
Да, кажется, и в армии у меня все идет наперекосяк. Правда, вначале все было хорошо, разумно, правильно, все в заданном направлении. В общем, все было нормально в первые месяцы службы. А потом появляется непонятный холодок, какая-то глубинная пустота. Будто я чего-то ждал, а меня обманули. И, видимо, это начинает происходить со мной от понимания того, что на самом деле армейская жизнь не такая уж и нормальная. Точнее, она не такая последовательная, простая, четко-размеренная, как может показаться с первого взгляда. Может, это и стало причиной моих последующих поступков.
Я раскрываю вещмешок. В нем три банки свиной тушенки, с килограмм сушеного гороха, черные сухари, наверное, тоже не меньше кило, плюс чай, сахар и два коробка спичек. Продукты есть. Можно ждать помощи. Меня же в любом случае должны искать. Нет, искать меня не будут! У Воробьева компас, карта. Он дойдет до Алмаза и доложит, что приземлился в тайге один. Искал меня несколько дней, колеся по тайге, и не нашел! Но опять же будут искать тело. Какое тело? Звери сожрали тело! А пойдет он на это? А почему бы и нет! Из мести-то? Пойдет!!!
Однако наступающие сумерки, непрерывный гул ветра в верхушках высоченных деревьев, подчеркивающий угрюмость этой местности, заставляют меня активнее заниматься делом. Экипировка у меня отличная. Ее готовил сам старшина Жуков. На мне бушлат, теплые ватные штаны, валенки, меховые рукавицы. Есть топор, нож, ракетница. Я приглядываю стоящую на краю поляны достаточно толстую сушину. Тщательно, как учили у десантников, утаптываю снег рядом с ней. Затем подрубаю ее и заваливаю на подготовленное место. На нее веером укладываю четыре ствола потоньше. Более тонкие деревья комлями я кладу рядом, а макушки у меня как бы разбегаются одна от другой. Потом я рублю сухие сучья и запаливаю костер. Огонь течет по стволам сушин. И место, расчищенное мной от снега, оказывается между потоков огня. Охапку мягких пихтовых веток я бросаю на землю, говоря себе: «Чтобы мягко было». Потом набиваю котелок снегом и вешаю над огнем. В пихтовых зарослях я нахожу смородиновый куст, отламываю один прутик, измельчаю его и бросаю в котелок. Приправа к чаю восхитительна.
«Садись, Ген, сюда», — приглашаю я сам себя и, чуть подпрыгнув, усаживаюсь на пружинистые ветки. От огня, который пылает с трех сторон, идет тепло. А от горячего чая с сухарями мне становится даже жарко. Уже темно. Я сбрасываю бушлат, потом снимаю с ног валенки и ставлю их поближе к огню. Сам же ложусь головой в сторону от него, набросив на себя бушлат. Вытянутые ноги, обмотанные двумя парами байковых портянок, хорошо обогревает огонь. Шапку я не снимаю, наоборот, нахлобучиваю ее до самых глаз и подтыкаю бушлат, чтобы нигде не поддувало. Я доволен собой. Доволен тем, что так здорово обосновался на ночь.
«А все-таки хорошо, что ушел взводный, — думаю теперь я. — Только обузой был бы. Как он выглядел, когда я ввалился к нему в дом. Смех один. И дернул меня черт связаться с его женой».
По правде сказать, у меня и в мыслях не было что-то затевать в этом роде, да еще на первом году службы. А началось все с того, что меня вызвал к себе Понько Алексей Дмитриевич, наш замполит.
И моя память услужливо восстанавливает и реконструирует эпизод за эпизодом из тех событий. У меня даже появляется надежда понять все то, что для меня до сих пор остается неясным…
Я прохаживаюсь возле штаба в ожидании Понько и ломаю голову, зачем я ему понадобился. Я уже не первый день в армии и кое-что понимаю в службе. Просто так замполит не вызовет.
Наконец он появляется в расстегнутой шинели, держа шапку в руке, толстый, лысый, потный, и делает мне знак следовать за ним. Мы входим в штаб, проходим в торец коридора и останавливаемся у его кабинета. Понько открывает дверь своим ключом, и мы оказываемся в чистой и почти пустой комнате, кажущейся чересчур просторной. Замполит сбрасывает с себя шинель на стул у стены и, плюхнувшись в кресло за письменным столом, кладет на него шапку. Отпыхтевшись и протяжно вздохнув, он поднимает на меня глаза и говорит:
— Идет молва, чадо, что вы песни сочиняете?
— Товарищ полковник, — смущаюсь я, — у меня действительно есть кое-какие песни, но обольщаться ими?!
— Оценивать талант — дело слушателей, — отрезает Понько, и его голос приобретает командирские нотки. — Я вам приказываю в три дня подготовить для стенгазеты заметку о прошедших учениях. Размеры ее не ограничены. Место вашей работы — красный уголок и библиотека. Приступайте!
«Легко сказать, приступайте! — злюсь я. — Я в жизни ничего подобного не делал!» По асфальтированной дорожке я направляюсь к клубу, где расположена библиотека. По обеим ее сторонам щиты с портретами полководцев — от Александра Невского до Георгия Жукова. Они намалеваны художником части. Пусты и безжизненны их глаза. И только ордена этих русских военных гениев удерживают мой взгляд. Детально выписаны! Установить бы здесь полотна Глазунова!
Встреча с Глазуновым, давно ли это было? А в общем-то, совсем недавно! Тонников, помню, устроил нам, самодеятельным актерам, эту встречу, когда мы были на гастролях в Ленинграде. Интересная получилась тогда встреча, как сейчас вижу.
Мои товарищи стоят у недавно завершенных полотен художника, а Глазунов с горящими глазами рассказывает им о своих планах. Я же не могу оторваться от работ, связанных с Достоевским. Дождавшись паузы, я спрашиваю:
— Отчего в некоторых из ваших рисунков так мало света?
Глазунов резко оборачивается и смотрит на меня с неподдельным удивлением. Весь его облик выражает только один вопрос: «Кто этот мальчишка, что посмел прервать мой монолог?!» Его глаза начинают тускнеть, и он, как мне кажется, даже уменьшается в росте. Нет, точнее, сгибается, словно грузчик под многопудовой ношей. И, как бы превозмогая давящий на него груз, произносит:
— Достоевский, умирая с раскрытым Евангелием в руках, провидел Христа нашего в голгофском сораспятии с народом нашим русским. — И замолкает, а затем, как пружина, распрямляется, сразу становится как-то выше и изрекает: — Народ русский — богоносец, богоискатель и потому — страстотерпец! Искони он испытывает нечто единственное, чего не испытывает никакой другой народ. Русский человек погружается в пучину великих стихий и мирового естества, которые в недрах своих несут и самое страшное, и самое высокое, и самое последнее! — Потом живописец начинает говорить очень мягко, но выделяет каждое слово: — Мы, русские, для других странные даже в любви к себе, к своей земле, к своему роду. В каждом из нас все это живет, но тихо, не напоказ. И это внутреннее наше единение, слитность, не заметные чуждому взгляду, и позволяют нам успеть сжать пятерню в тяжелый кулак для крепкого, смертельного удара по любой гадине, если таковая попытается удушить Русь. А секрет нашей крепости в простой истине — единении вокруг Бога, царя-отца нации и отца семьи, первейшей основы здорового общества…
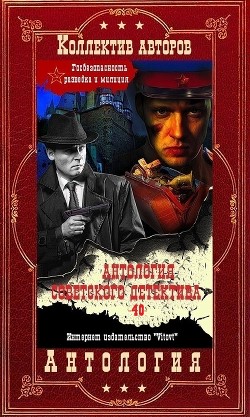

![Юрий Кларов - Пять экспонатов из музея уголовного розыска [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/181018/181018.jpg)