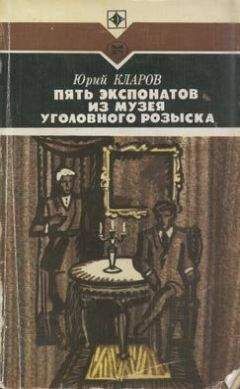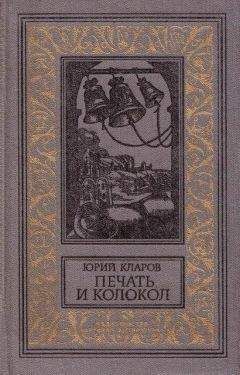А она в ответ на эти мои слова вдруг криком кричит, что я ей совсем чужой, что я не понимаю ее.
— Почему? — удивляюсь я. Но библиотекарь ничего объяснить не может, да, видимо, и нельзя этого объяснить — сама толком, наверное, не понимает.
Ирина набрасывает халат. Я спрашиваю ее:
— Ты с замполитом говорила?
— Еще бы, — отвечает она. — Он поручил мне все, что ты напишешь, на машинке перепечатать. Я же курсы машинисток кончила.
Одевшись, я выхожу на улицу. Пора мне и поработать. Для начала я разгребаю снег у крыльца найденной в сарае лопатой и очищаю дорожку, ведущую от калитки к дому, а потом принимаюсь за дрова.
Колоть их я умею и люблю. Еще на даче в Чепелево я прославился как замечательный дровосек и в этом качестве зарабатывал дополнительные деньги к заводской зарплате. Я умею это делать так, что всем кажется, будто дрова у меня раскалываются мгновенно, почти без усилий, при легчайшем прикосновении топора. Потом я ловко укладываю их в замечательные по стройности и емкости поленницы.
Уже по темноте я захожу в дом. Ирина ставит на стол сало, обсыпанную репчатым луком и политую подсолнечным маслом селедку, порезанную на куски и уложенную в селедочницу. Потом водружает на средину стола самовар и приносит вазочку с вареньем из шиповника. После этого ловко достает ухватом из печи горшок и сковороду, кладет в стоящую передо мной тарелку упревшую рисовую кашу, ломоть поджаренной шейки и завершает все это графинчиком с водкой. Я усаживаюсь на кухонную табуретку и приступаю к еде. Ирина смотрит, как я ем, и губы ее трогает легкая улыбка:
— По-городскому ты ешь, красиво. Ты правда из Москвы?
— Правда, — отвечаю я.
— Мать, отец у тебя там, да?
— И еще два брата.
— А живете где?
— Как где? В квартире.
Во время этого диалога я почему-то испытываю неловкость за то, что живу в Москве, в столице, а Ирина — в этом стареньком домишке. И я льстиво спрашиваю библиотекаря:
— Где ты научилась управляться с русской печью и так классно готовить?
— Я из малюсенького городка, где кирпичными были лишь казармы военного училища да райком партии с исполкомом. Остальные дома — деревянные, с печным отоплением. Мать работала уборщицей одновременно и в райкоме, и исполкоме. Начинала с вечера и убиралась до полуночи. Утром вставала в пять и прибиралась дальше, а к восьми бежала вкалывать на прядильную фабрику, хотя отец и получал неплохую пенсию.
Ему в войну ноги оторвало, а сила мужская у него, видно, оставалась, мать еще двух девок родила. Пятерым прокормиться на одну пенсию можно ли? Отец, правда, сапожничал. Но кто в таком городке будет отдавать обувь кому-то в ремонт?! Как правило, все мужики сами с этим управлялись. Только офицеры из училища приносили иногда. В восемь лет я уже не просто помогала матери, а считай, сама готовила. В девять подменяла ее, убираясь в исполкоме по вечерам, чтобы начальство не заметило. Детям-то работать нельзя. Отца уже не было. Умер…
Окончив десятилетку, я, оглушенная духовым оркестром военного училища, ослепленная золотом погон его выпускника, выскакиваю замуж, а через пару месяцев понимаю, что все у меня наспех, что не разобралась…
Ирина по-бабьи подпирает кулаком щеку, смахивает набежавшую слезу и с дикой, выкормленной годами злобой, продолжает: — Никакого счастья мне не было. Сроду сладкого не едала, платья красивого не одевала.
«Кто передо мной? Где принцесса?» — думаю я. И грубо осаживаю Ирину: — Давай, заголоси еще! Тебе же восемнадцать, от силы девятнадцать. Боль у всякого есть. Ешь одну черняшку, а фасон держи! — гаркаю я на весь дом, ощущая внезапный прилив энергии. И, подхватив библиотекаря на руки, хохочу. Раскачивая ее, как ребенка, бегаю по кухне, а потом, задохнувшись, с маху падаю с ней на диван, который под нами чуть не проваливается до пола.
Подурачившись еще немного, мы усаживаемся на скамью у печи, и библиотекарь, делая вид, что устала от игры, кладет мне голову на плечо, замолкает и прижимается к нему щекой. Поначалу она несколько раз пробует его мягкость и надежность — будет ли удобно и тепло? Мне кажется, что она примеряется ко мне, и я жду, чем же все это кончится, успешной ли будет примерка. Отвечаю ли я тем требованиям, которые хоть и негласно, но уже очевидно предъявлены мне. Я кладу ей руку на запястье, а она мне шепчет:
— Еще только полдевятого, ты не волнуйся! Воробьев, когда дежурит, никогда домой не приходит. Начальства опасается.
Я поворачиваюсь к окну. Там, под редкими электрическими столбами на снегу желтеют пятна света. Месяца мне не видно. За стволами деревьев просторно белеет двор, а дальше, за штакетником, своей накатанностью выделяется дорога. И на ней вроде бы мелькает тень, а потом скрывается в сумраке забора и кустарника.
— Кто там? — кинувшись к двери, только и успевает с хозяйской строгостью спросить библиотекарь, как дверь с треском распахивается. Я вижу перед собой взводного, который тянется правой рукой к кобуре с пистолетом, а сзади него окаменевшую Ирину. Воробьев делает ко мне шаг, но я его опережаю:
— Здравия желаю, товарищ старший лейтенант! — Я стою перед ним, вытянувшись, и совершенно тупо, но преданно, смотрю ему прямо в зрачки: — Все дрова переколоты и уложены в поленницы, дорожка к дому очищена. Докладывает рядовой Якушин. Разрешите идти?! — И, не дожидаясь ответа, обхожу обомлевшего взводного и выскакиваю на улицу. Про медальон, оставленный у Ирины, я забываю.
Двое суток, почти без сна, я пишу заметку об учениях, но уже не в библиотеке, а в красном уголке казармы. К утру третьего дня я ее заканчиваю, исписав три ученических тетради мелким почерком. Ставлю последнюю точку и смотрю на часы. До подъема два часа. Толком поспать все равно не удастся. Значит, надо двигать задуманное!
Я представляю себе, как от моего телефонного звонка проснется взводный, как он, включив ночник, прохрипит спросонья в трубку: «Старший лейтенант Воробьев слушает». От шума, наверное, проснется и Ирина. Она сядет на кровати рядом с ним и испуганно спросит: «Олег, что случилось?..»
Дневальный дрыхнет, уложив на тумбочку руки и голову. Я тихонечко, чтобы его не разбудить, беру телефонный аппарат, отношу его как можно дальше, пока хватает провода, снимаю трубку и прошу квартиру старшего лейтенанта Воробьева. Характерный голос взводного неприятно чешется у меня в ухе. Я отстраняю трубку, ухмыляюсь — все, как по писаному, — и обвожу глазами спящих товарищей, затем гляжу в окно, где в темном, почти черном небе беззвучно плывет крест, составленный из разноцветных огоньков с пульсирующей точкой, и говорю:
— Товарищ старший лейтенант, докладывает рядовой Якушин. Приказ полковника Понько выполнен. Заметка для стенгазеты готова. Товарищ старший лейтенант, я хочу прямо сейчас принести ее к вам домой. Очень важно, чтобы ваша жена прочитала.
Трубка несколько раз кашлянула, потом взвыла, будто там у кого-то выдернули больной зуб, и из нее понеслось:
— Вы что себе позволяете, Якушин! Да я вас сгною на кухне! Два наряда вне очереди и сию секунду на кухню шагом марш! — Однако сквозь угрозы Воробьева я различаю в телефонной трубке и взволнованный голос Ирины:
— Олег, что случилось?
— Это сумасшедший Якушин звонит!
И тут же трубка начинает говорить голосом Ирины:
— Гена, обязательно приходи. Я жду тебя с заметкой. Я возьму ее.
— Ирина, меня самого уже взяли в кухонный наряд, — смеюсь я.
— Никаких нарядов, — строго говорит Ирина. — Повторяю, я тебя жду.
Чуть ли не в мгновение ока я оказываюсь у дома старшего лейтенанта и жму на звонок у двери. Ирина выходит на крыльцо в халате, еще розовая со сна, кутаясь в пуховый платок. Кот трется о ее крепкие стройные ноги. Я в восхищении смотрю на нее. А она, сверкнув великолепными глазами, широко открывает обитую изнутри мешковиной входную дверь и пропускает меня вперед.
Я улыбаюсь с лукавой надменностью, пожимаю плечами и вхожу в сени. Через полуотворенную в комнату дверь видно, как маленький, в круглых старушечьих очках, с серыми, как птичий пух, волосами, с папироской во рту туда-сюда бегает по крашенному коричневой краской дощатому полу взводный. Он в галифе, нижней рубашке и тапочках на босу ногу. Пробегая мимо стола, стряхивает пепел в стоящее на нем блюдечко. Увидев меня, он выпячивает острый, как клюв, подбородок и говорит:
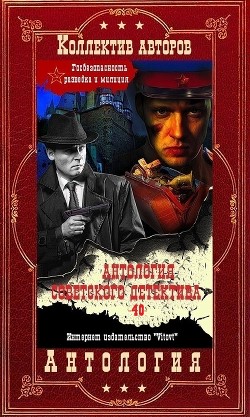

![Юрий Кларов - Пять экспонатов из музея уголовного розыска [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/181018/181018.jpg)