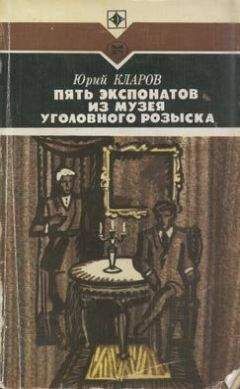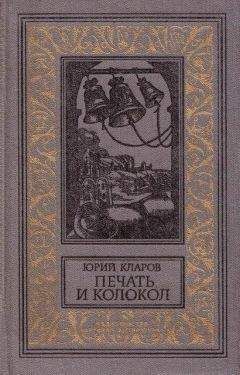— Что-то, Сема, вид у тебя неважнецкий, а?
— А ты разве не знаешь? Письмо я получил и после него ничего не соображаю, — отвечает он.
— Какое письмо? — с сочувствием спрашиваю я.
— Так тошно! Два года меня ждала девчонка, писала. А теперь, когда и ждать-то ерунда, замуж выходит. И обиднее всего, что за друга моего выходит! Ну, сам знаешь, как бывает. Глупостей наделать боюсь! Написала, что любит его по-настоящему.
Проведав о горе Савельева, я вначале испытываю к нему некоторое сострадание. Каждый из нас в армии живет в двух измерениях благодаря письмам с гражданки — здесь и дома! Сколько раз бывало, что мое тело выполняет очередной приказ командира, а душа — на «гражданке», в строках письма. Реальная жизнь и воображаемая связаны, и тяжело, когда какая-то складывается паршиво. Для меня, как, наверное, и для любого другого, самое приятное время — послеобеденное ожидание писем. Почта располагается как раз напротив нашей казармы, и обычно почтальон, закончив сортировку, зовет первыми нас. И я вспоминаю, что последний раз, когда мы, ожидая почту, вели обычный, ничего не значащий треп, пересыпаемый анекдотами, Сема стоял один в стороне, прислонившись спиной к стене казармы. Принесли письма. Больше всех, как обычно, получил Рахматулин — пять! А Савельев не получил ни одного. Об этом я молчу, однако дипломатично интересуюсь:
— Слушай, Сема, а какие глупости ты имеешь в виду?
Савельев взмахивает рукой, как шашкой, и режет:
— Порешить того парня хочу. Понял? — и впивается в меня налитыми злобой бусинками глаз. — И с невестой моей, паскудой этой, тоже разобраться надо. Изъязвила она душу мне.
— Понял! — отвечаю я с деланным сочувствием и продолжаю: — Вот что, друг, оставь и девушку и парня в покое. Кончай с этими дурными мыслями. Я тебя понимаю. В принципе, ты парень неплохой. Я вообще-то доволен, что у нас теперь все складывается, — завершаю я беседу.
— Ой! Что это со мной?! — хватается Сема за спину. — Прихватило! Согнуться не могу, а мне коридор драить надо. Вот беда! Не поможешь?
После его угощения мне как-то неудобно ему отказывать. Что же касается его вранья насчет невесты, мне от этого ни холодно, ни жарко. И я берусь, как и он, за швабру. Но не проходит и десяти минут, как Савельева скручивает совсем, и он, чуть ли не плача, говорит:
— Придется тебе одному домывать. Я — в санчасть, к врачу. Боль дикая. — И, скрючившись, уходит. Я драю пол, а дневальный смеется:
— Вот артист Сема! Артист! Здорово он тебя купил. И пол будет вымыт, и кино он посмотрит. Да не расстраивайся, не тебя первого он покупает.
Услышав такое, я тут же бросаю швабру, переодеваюсь и бегу в клуб. Я успеваю к моменту, когда заканчиваются титры. Так что фильм я смотрю полностью. И хотя со знакомством с девушкой у меня ничего не выходит, я в самом лучшем настроении напеваю: «Пять минут, пять минут, их осталось так немного…» и возвращаюсь в казарму, где вижу драящего коридор Савельева. Он со шваброй в руке подскакивает ко мне:
— Ты, чудило! Вот тебе швабра и пятнадцать минут до вечерней проверки. Драй, время пошло! Ну!
Честно говоря, его налет меня даже смешит, но отвечаю я ему вполне серьезно:
— Иди ищи себе другую шестерку!
— Что?! Что ты говоришь?! — И Сема хватает меня за шиворот своей короткой лапой. — Я из тебя борзость-то вытрясу! Понял? Понял?!
Он раскаляется, как кусок железа на углях, уже весь белый и шипит. И, судя по выражению его физиономии, прицеливается, определяя место для затрещины. Ребята, находящиеся в казарме, вмиг окружают нас.
Савельев и в мыслях не держит, что с моей стороны могут последовать ответные действия. Я же с детства применяю к таким олухам свой коронный и всегда эффективный прием — удар лбом по носу противника. И тут я делаю то же самое с огромным удовольствием.
Сема мычит и зажимает рукой свой длинный костистый паяльник, из которого хлещет кровь.
— Савельев, ну почему от вас всегда столько шума? — вдруг раздается утомленный голос сержанта Виктора Воронова. — Заколебали вы всех своей силовой педагогикой!
Последние слова сержанта вызывают такой хохот в казарме, что дребезжат оконные стекла.
В этот миг в казарму входит старшина Жуков, обводя солдатский коллектив памятливым взглядом. Морща от раскатов рапорта дневального румяное лицо с красивым большим ртом, он узнает, что за время его дежурства в батарее ровным счетом ничего не случилось.
Старшина появился в казарме с совершенно мирной целью. Он должен построить и увести солдат, идущих в кухонный наряд. Но, глядя на глотающего кровь Савельева и на меня, стремящегося упорядочить дыхание, Жуков задерживается и язвительно спрашивает:
— Боролись?
— Вся жизнь — борьба… — отвечаю я.
Старшина глядит на меня с укором, мол, эх ты, трепло!.. А я, все еще прерывистым голосом, продолжаю:
— Товарищ старшина, солдата Савельева избил я. Признаю свою вину и жду наказания.
Во взгляде старшины вдруг пропадает определенность. Он явно теряется и переспрашивает:
— Не понял? Повторите!
Я молчу. Жуков с грустью констатирует:
— Я вас считал более умным человеком. А сейчас с глубоким сожалением должен сказать, что вы балда балдой. Ефрейтор Лисичкин, проводите его на гауптвахту. О том, почему вы, Якушин, отправлены на губу, я доложу немедленно дежурному по части. И я не гарантирую, что по итогам расследования инцидента вы не окажетесь в дисбате.
После этих слов я чувствую, как где-то в животе у меня начинает шевелиться комочек страха. А Жуков поворачивается к Савельеву, держащему на переносице кем-то принесенную мокрую тряпку, и с издевательской вежливостью говорит:
— Слушайте, вы, дебил в четвертом поколении, вы пойдете со мной на кухню. Там я сам, по-фронтовому, буду вести следствие. — И старшина демонстрирует свой здоровенный кулак, которым можно сваи заколачивать. Сема затравленно и безысходно смотрит на этот кулак, и вдруг пронзительно-тонко, в ужасе вопит:
— Да что вы из меня жилы тянете! Если что-нибудь со мной случится, все-все загудите! Все! Вы все соучастники!
— Почему — все? — удивляется Воронов. — Вот дежурный не загудит. Дневальный тоже. Но какая же вы все-таки сволочь, Савельев! — завершает он.
Лисичкин ведет меня на губу через полковой плац. Его я уже знаю наизусть, несмотря на небольшой срок своего пребывания в армии. Уже не один развод пришлось мне отстоять на этом брусчатом поле, и не один раз, вывернув голову до отказа вправо, строевым шагом проходить мимо дощатой трибуны с замершим на ней с ладонью у папахи генералом Ивановым, нещадно лупя сапогами камни в такт ухающему где-то за спиной большому барабану.
…На пятые сутки моего пребывания на губе ко мне в одиночку, поправляя сбитую низкой притолокой шапку, входит Капустин. Взгляд его острых глаз заставляет съежиться и быть настороже.
— Ну, как курорт, Якушин? Не растолстели на его харчах? — заводит он разговор с чуть заметной улыбкой. — Что молчите?
— А что сказать, товарищ капитан? — отвечаю я. — Я уже все сказал. Виноват, и вины своей не отрицаю. «Симпатичным прикидывается! — думаю я. — Черт, а не мужик. И верно, что-то сатанинское в нем есть, особенно в его взгляде».
— Да не забивайтесь вы в угол! — продолжает он все с той же улыбочкой.
Его фривольный тон и эта улыбочка меня бесят. Я поднимаю глаза на комбата, еле сдерживая бушующую во мне ярость. И он вскидывается, будто внезапно разбуженный. А затем, не спуская с меня взгляда, отходит к двери.
— Однако! Прикидываетесь казанской сиротой, а клыки-то у вас волчьи! Ох, смотрите мне, Якушин! — грозит он, пряча в уголках губ улыбку. — После ужина идите в казарму. Я распорядился.
С губы я возвращаюсь чуть ли не в полночь. В завершение мне поручили покидать уголек. Казарма встречает меня красноватым светом ночника, спящим дневальным, уронившим голову на тумбочку, разнообразными звуками: сонными вздохами, сладким посапыванием, тонким, почти художественным свистом, раскатистым храпом и невнятным бормотанием.
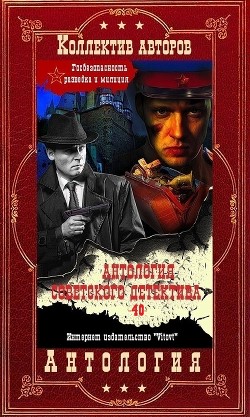

![Юрий Кларов - Пять экспонатов из музея уголовного розыска [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/181018/181018.jpg)