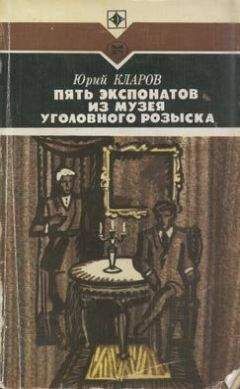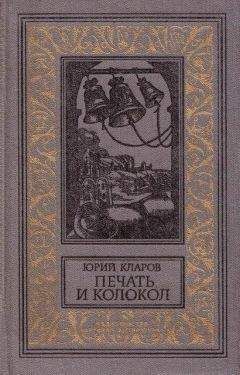А куда бы она, живопись, ни развивалась — это никак не может повлиять на работу Заболоты. В магическом пятиугольнике, где все открывается и создается Заболотой, все пять вершин заняты им раз и навсегда: две вершины — рисунок и цвет, две вершины — мировое Добро и мировое Зло, как может видеть и понимать их только Виктор, а пятая — сам он.
Заболота пишет сразу несколько картин, оставляя и возвращаясь к ним вновь. Ни одну из них он не доводит до такой ступени, которая дает мастеру ощущение совершенства. Виктор даже не знает точно, существует ли такая ступень. Он оставляет их тогда, когда уже перестает различать в них что-либо, когда примелькается его глаз. Заболота оставляет их тогда, когда с каждым возвратом все меньше и меньше способен их улучшить, когда замечает, что портит, а не исправляет. Он оставляет их, поворачивая к стене и задергивая полотном. Картины от него отделяются, отдаляются, а когда Заболота снова свежим глазом взглядывает на них, восторг пробивает художника. Тогда он звонит мне. А когда я посмотрю, приглашает заказчика. И его творение навсегда покидает мастерскую.
Сегодня, полный внимания, я рассматриваю последнюю работу Виктора. Река. Стылая вода. Она имеет глубину, свинцово-прозрачная и очень холодная. Небо, не знающее солнца. Над рекой у обрыва изувеченное дерево, а снизу из ствола пробивается зелень.
— Это мы, это Русь, — говорит Заболота.
— Постой, Виктор! — возражаю я. — Кому нужна твоя страсть к крайним выражениям. У тебя, — говорю я, — что-то непомерное. А надо ли это сейчас?
— А Русь и есть непомерная, вечно в борьбе, вечно умирающая и вечно возрождающаяся! — злится Заболота. — А ты поддался Левитану и вслед за ним считаешь нашу природу и нас приятненькими, скромненькими, бедненькими, обиженными. А это далеко не так.
— Эмоции! — отрезаю я.
— Да это слышать невозможно!!! — гневается художник и потрясает руками. — Гена, ты заблудился. Мы — воины, бунтари, борцы. Мы противостоим злу! И за этой картиной у меня очередь. Людям нравится! А это говорит о том, что всем все понятно, кроме тебя.
— Так не бывает, — опять возражаю я. — Как ее воспринимать? Глядя на эту картину, иной человек скажет: «Братцы, кто кого формирует — жизнь человека, или стоицизм человека — саму жизнь?»
— Молодец! — кричит Заболота и обнимает меня. — Вот за это я тебя и люблю. Кроме тебя никто такого не скажет. Ты чувствуешь мои работы и понимаешь их глубже меня. — И тут же достает из заляпанного краской шкафчика бутыль из-под шампанского. — Это смородиновая настойка. Самогон — слеза, сам выгонял, три раза через противогаз пропускал. А смородина с собственной дачи. — После того как бутыль наполовину пустеет, Заболота встает и торжественно объявляет: — А теперь я тебе покажу вот эту картинку, а точнее эскиз. Недавно нашел. — И он выставляет передо мной портрет Марины.
Я помню его. Виктор писал этот портрет сразу после нашей свадьбы. Я тихонько провожу по портрету рукой, и во мне тонко начинает ныть разбуженное картиной чувство к жене. Как будто те места, которых я касался сейчас на портрете, — ее глаза, шея, волосы, — покрылись драгоценной пыльцой.
Я уже не один год живу без того, что отпущено мне на земле. Мне оставлены разум, есть убеждения. Я созрел до них. И забот об общественном благе по горло. Такова журналистская доля. А родной косточки — нет. И одна любовь Марины, которой я лишен, словно перевешивает весь остальной мир. Я хочу говорить и слышать от нее простые слова: «Любишь?» — «Люблю! А ты?», — сказанные взглядом или шевелением губ. И чтоб наполняли они мою душу тихим праздничным звоном. Сейчас, глядя на портрет, я не могу представить или вспомнить какой-либо недостаток моей бывшей жены.
Неожиданно для самого себя я вскакиваю со стула, хватаю пальто, шапку и, не прощаясь с Заболотой, выскакиваю на улицу.
«Мне надо домой, мне надо к жене!» — стучит у меня в мозгу. И передо мной появляется ступенька тумана. Туман перемещается. Я смотрю на него, и мне кажется, что сгусток тумана, пришедшего сверху, висит, как твердое тело, и постепенно приобретает ажурную конструкцию моста. Он тверд и неподвижен.
Видение столь явственно, что легко отличить его затемненную нижнюю сторону от боковой светло-песчаного цвета. Я вхожу на ступени, чтобы подняться на мост, но они ведут меня вниз. Внезапно туман рассеивается, и я оказываюсь в Новых Черемушках, неподалеку от своего дома.
И неожиданно для самого себя останавливаюсь. Куда я иду? У меня нет здесь дома. Постой, что-то с моей головой, а точнее, с памятью. Я растерянно оглядываю себя. На мне мое зимнее пальто с каракулевым воротником, под ним мой пиджак, мои брюки, рубашка. Все чисто, выглажено. И все же я пока не осознаю, зачем и почему я оглядываю себя. Видно, моя память срабатывает, но срабатывает как-то со скрипом, как-то нечисто срабатывает, и до меня не доходит сразу суть выдаваемой ею информации. И лишь через какое-то мгновение, как бы со стороны, в мой мозг вливается понимание того, что вся имеющаяся на мне одежда чистится, гладится и стирается лично мною. А жены у меня нет.
Но как же мой ребенок, мой сын Андрей? Я бросаюсь к телефонной будке и пытаюсь набрать когда-то свой номер, но сбиваюсь, путаю цифры. Господи! Что творится со мной? Наконец номер набран. Я слышу голос Марины и спрашиваю: «Ты будешь дома?» Она молчит. Но я чувствую, что она слышит и узнала меня, и говорю: «Я через полчаса буду». Трубка снова несколько секунд молчит, а потом отвечает: «Ладно».
В квартире ничего не изменилось. Я прохожу в комнату и сажусь в свое кресло.
— Чай будешь? — спрашивает Марина.
— Можно, — отвечаю я.
Она уходит на кухню. Из комнаты мне видно, как Марина суетится у плиты. Лицо у нее бледное, смытое какое-то, и на нем застыла маска вечного удивления. Да, она сильно изменилась. Поцеловать ее? Нет, лучше не надо. Да и губы у жены развыклые, слабые. И как утомлена! Ей, видно, плохо. Но что значит «плохо» для Марины, я не знаю. Неприятности в министерстве? Но ее работа в нем никогда меня всерьез не затрагивала. Марина наливает мне и себе чай и садится против меня.
— Наша семья, — завязываю я разговор, — обладала единственным, но несомненным достоинством, среди всех существующих доныне семей, она достаточно быстро распалась. А есть такие, в которых супруги мучают друг друга до сего дня. Правда, это вовсе не моя и не твоя заслуга. Это заслуга нашего замечательного времени, когда сроки, отпущенные на существование семьи, изумляют краткостью своего существования.
Я делаю глоток, ставлю чашку и внимательно вглядываюсь в свою бывшую жену. Но лучше бы я этого так откровенно не делал! В ответ на этот мой взгляд она говорит, глядя мне прямо в лицо:
— Трезвым ты не мог прийти? Хотя, надо отметить, и поддатый ты выглядишь прекрасно. Я бы даже сказала, шикарно. Личико свеженькое, румяное, ну прямо как помидорчик. Модный костюм, дорогое пальто. И интеллигентскую чушь несешь, как обычно. А вот твоего собутыльника Рощина вчера похоронили! На, читай, некролог в «Литературке».
Я, взглянув на некролог, возмущаюсь:
— Еще одного талантливого человека затравили!
— И как тебя хватает и пить, и писать? Гена, зачем ты пьешь?
— Зачем? — Я поднимаю голову, смотрю на Марину и, ухмыльнувшись, отвечаю: — Так, поговорить надо…
— С кем?
— С собственным прошлым… Которому я обязан своим настоящим…
— Зачем?
— Душу облегчить… Ты безбожница. Тебе не понять! А может, поймешь? «Интернационал» — гимн этот помнишь? Помнишь его первую строфу?
— «Вставай, проклятьем заклейменный…» — говорит Марина. — Как видишь, помню!
— А о чем эти слова, к кому они обращены? Понимаешь?
— Естественно, к пролетариям. Чего здесь понимать?
— Нет! Эта строфа обращена к падшим слоям человечества, и иллюстрацией этому служат слова из книги «Второзаконие», [125] относящиеся прежде всего к иудеям: «Проклят всяк, не исполняющий всего написанного в книге сей».
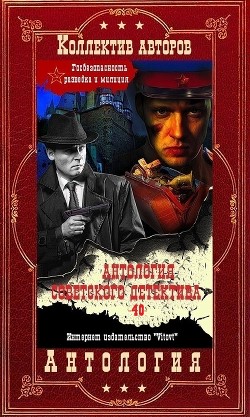

![Юрий Кларов - Пять экспонатов из музея уголовного розыска [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/181018/181018.jpg)