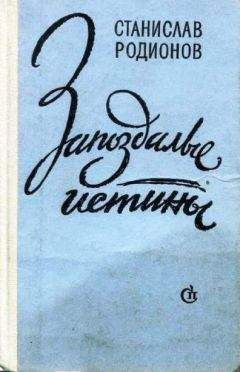Женщина села, скинула на плечи тёплый платок и расстегнула шубу — она была одета по-зимнему. Простое крупное лицо, задетое недоумением, казалось детским.
— Со Слежевской вы дружили? — спросил Петельников.
— Нет, но были в хороших отношениях.
— Она вам о себе рассказывала?
— Ну, рассказывала…
— Жаловалась на что-нибудь?
— Ей не на что было жаловаться.
Женщину смущали не вопросы инспектора, а круг стоявших молчаливых мужчин. Она обегала взглядом их лица, словно выбирая себе защитника. И выбрала — в очках, грустное, рябининское. И теперь на вопросы отвечала не' инспектору, а этому очкастому лицу.
— Слежевская в бога верила?
— Что вы… Общественница… Заведующая…
— А как же зов? — прямо спросил Петельников.
— При чём тут бог? — удивилась женщина тому, что он, Рябинин, в очках, а не понимает. — Это так, её предчувствие…
— Вера Игнатьевна, как она говорила про это предчувствие?
— Как… Говорила, убьют меня, Веруша. Убьют по голове. И просила, чтобы я обязательно пришла на поминки.
— А вы что?
— Господи, да убеждала её выкинуть эти глупости из головы.
— Всё сказали?
— А что ещё?
Теперь и Петельников глянул на следователя, показывая, что вопрос с потусторонним зовом ясен. И тогда Рябинин предал эту доверившуюся ему женщину ради поиска истины, ради оживления её памяти, и стал говорить то, что не думал:
— Вера Игнатьевна, вы же сказали неправду или сказали не всё…
— Как? — Она даже зашлась в глубоком непереводимом дыхании.
— Посудите сами. Летают космонавты, бурлят колбы, гудят синхрофазотроны… А вы нам про какой-то мистический зов.
— Я же её слова передаю…
— А сами-то верите в них?
— Верю! — с какой-то распалённой силой бросила она, обводя деревянные лица мужчин уже сердитым взглядом.
— Почему верите?
— Потому что она убийцу свою знала.
— Кто? — спросил Рябинин уже одновременно с Петельниковым.
— Мелентьевна.
Все бездыханно молчали, боясь спугнуть неожиданное признание. Наконец Рябинин тихо спросил:
— Кто она?
— Работала уборщицей в садике у Слежевской. Теперь живёт в городе…
Инспекторский дружный круг сразу ослабел и стал распадаться на отдельных людей. За окном почти одновременно завелись две машины. Рябинин поднялся, чтобы повести женщину в свою комнату для официального допроса. И тогда она тихонько сказала непонятную им в тот торопливый момент пословицу:
— Кричит на кошку, а думает на невестку…
Жизнь на глазах людей стала Рябинина тяготить.
Ел под насторожённым вниманием милиционера-повара, самострадающего от своих пересолов и переваров. Просыпался от взгляда Леденцова, немигающего, тоже рыжего, как и его шевелюра, — просто так ли он смотрел, опыт ли психологический ставил… Писал дневник, закрываясь плечом от любопытствующего Петельникова. Размышлял под надзорным интересом инспектора Фомина, который удивлялся, почему следователь полчаса сидит на раскладушке и ничего не делает; Рябинин не мог думать, когда на него смотрели, — ему казалось, что ловимая им мысль просвечивает.
Рябинин нахлобучил шляпу и выскочил на улицу. Там, остуженный осенью, он догадался, что слегка лицемерит, — не товарищи его тяготили, а Слежевский притягивал. Но какой силой? Рябинин усмехнулся — чаем. И тут он лицемерил. Слегка.
Куриные ножки у избы не выросли. И чёрный кот не сел у порога. Время, тут поселилось недвижное время…
Рябинин вошёл, как всегда, насторожённо. Слежевский шагнул к плите и переставил чайник. Тот загудел сразу, будто тоже ждал следователя.
— Говорят, чай нужно пить не из чашек, — сказал Рябинин, раздеваясь.
— А из чего?
— Из пиал.
— Какая разница.
— Говорят, вкусней…
Рябинин достал из кармана две пачки цейлонского чая и выложил на пока голый стол. Слежевский глянул на них равнодушно, снедаемый своими мыслями. Ели вопросы и Рябинина, поэтому он спросил прямо:
— Олег Семёнович, выходит, что с женой вы жили не так уж и хорошо?
— Кто вам сказал?
— Вы.
— Когда же?
— По вашей теории неравномерная любовь чревата. И вы назвали жену самодержцем. А это уж…
— Да, — подтвердил Слежевский вроде бы довольно.
И взялся за чай — приспело его время, как и время долгого разговора. Они сидели молча, выжидая, когда чашки остудятся до возможности прикоснуться к ним губами.
— Сколько написано книг, как любовь приходит… — обронил Слежевский глухо, будто утопил слова в чашке.
— Написано, — подтвердил следователь.
— А как уходит? Приходит она примитивно, сразу. Как у меня. А уходит-то ох как долго и сложно. Вроде рака со смертельным исходом.
— Неужели вы свою любовь не уберегли? — грустно удивился Рябинин, помнивший его жаркие слова.
— Потому что не законсервировал.
— Не совсем понял, — совсем не понял Рябинин.
— Любовь надо консервировать, — почти обрадовался Слежевский тому, что следователь этого не знает.
— Как консервировать?
— А спросите у хозяек, чем они сохраняют фрукты да ягоды. Сахаром, солью, уксусом…
— Любовь не фрукты, — неопределённо заметил Рябинин, так и не уловив его мысли.
— Любовь надо остановить, как время.
— Время пока ещё не останавливали…
— Расстаться. Чтобы сохранить любовь на всю жизнь, надо расстаться с любимым. Разлука вместо соли и уксуса. А если жить вместе, то любовь уйдёт, поверьте мне…
Поверить этому Рябинин не мог, потому что прожил с женой почти два десятка лет. Но ему была известна странная нелепица, о которой говорил Олег Семёнович: надо потерять, чтобы сохранить; отнятая любовь остаётся в душе вечной памятью, сохранённую любовь разъедает время.
— Есть женщины, которые живут без мужей, растят ребёнка, сами зарабатывают. И поэтому считают, что должны быть грубыми, дерзкими, сильными…
— Такой была ваша жена?
— Такой, — усмехнулся Слежевский. — Только прибавьте, что она руководила коллективом, вела в посёлке общественную работу и от природы имела боксёрский характер.
— Хотите сказать, что она руководила и семьёй?
— Руководила? — удивился Слежевский столь неточному слову. — Она сделала проще: подменила семейные отношения производственными. Командовала нами, как хороший директор.
— Может быть, это и неплохо, — подумал вслух Рябинин, сомневаясь в придуманном.
— Почему? — Слежевский спросил зло, разглядывая следователя поверх чашки.
— Порядок был…
— Порядок был. За счёт жизни. Мы обедали молча. Шли в кино молча. Спать ложились молча. Жили в рыбьем царстве. Почему? Потому что она работала. Была деятельной. Энергичной, чёрт возьми!
Он почти бросил чашку на стол — жёлтые брызги медовым веером окропили столешницу. Притихший Рябинин ждал, не понимая, почему её энергия вызывала немоту в семье.
— Человеческие отношения стали нам не нужны. Вместо них работа. Мы говорили только о делах. А обед, кино, любовь — это не дела. Чего же говорить?
— Вы что-то ей… объясняли?
— Что? Что семья не народная дружина, в которой она дежурит? Что нельзя человеческие отношения заменить работой? Что иногда неплохо бы и улыбнуться?
— И всё-таки говорили ей всё это?
— Она слушала, пробовала перемениться. И как, думаете? Работой. Вкусней готовила обед, рьянее убирала дом, чаще стирала… Всё это с лицом коменданта, у которого не хватило простыней. Тогда я смекнул — не может она иначе. Два мужика в семье, два.
Он перевёл дух. Вздохнул и Рябинин, хотя ничего не говорил, не запыхался и пребывал тут с единственной целью — отдохнуть. Почему же он устаёт в этой избушке сильнее, чем в шумном клубе?
— Как вас звать? — спросил вдруг Слежевский.
— Сергей Георгиевич.
— Мне не хватало… как бы сказать… её слабости. Дурь, Сергей Георгиевич?
— Нет, не дурь.
О женской слабости Рябинин думал не раз.
Сквозь путаную ткань любого уголовного преступления виделся, явно или затененно, лик женщины. Она любила или не любила, воспитывала или не воспитывала, облагораживала или не облагораживала… Она могла подвигнуть к вершине, но могла толкнуть и к яме. Поэтому Рябинину приходилось думать о женской силе и слабости.
Его отпугивала женщина, наделённая силой и энергией, Чем она отличается от мужчины — только биологией? Его смущала женщина безропотная, сколь бы ни была она красива и хороша. Что толку в её красоте, ничем не защищённой и ничего не несущей?
Но были женщины прекрасные, которых он полюбил бы всех, сколько их ни будь; женщины, в душах которых слилась беззащитность с высокими идеалами; женщины трепетные, где простота соприкасаема с мечтами, робость с гордостью, уступчивость с требовательностью; женщины, слабость которых защищена этими высокими идеалами…