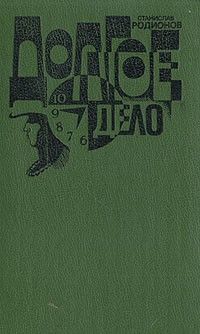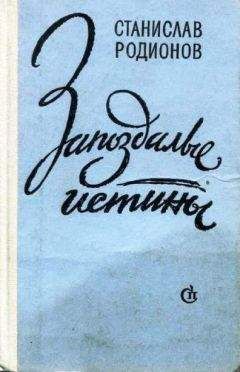Леденцов прибавил шагу и у опавших липок нагнал его:
— Друг, закурить не найдётся?
Парень глянул сверху вниз на горевший чуб, на зелёный плащ, на болотные брюки, на лягушачий галстук, на ботинки цвета опревшего сена. Усмехнувшись, он протянул сигарету из распечатанной пачки и полез в карман за спичками. Леденцов сигарету взял, но от огня отказался:
— Спасибо, не курю.
— Как не куришь? — опешил парень, приостанавливаясь.
— Одна капля никотина убивает коня…
— Зачем же просил закурить?
— Вроде как бы с подходцем. А вообще-то мне нужно узнать, как пройти на улицу Ветеранов.
— Иди прямо… — начал объяснять парень и пошёл сам громадным шагом, не сомневаясь, что рыжий отстанет, затерявшись меж липок.
— Да нет, не прямо, — перебил Леденцов, — лучше повернуть назад.
— Можно и назад. Выйдешь на проспект и садись на автобус, на «полтинник»…
— Лучше на девятнадцатый троллейбус.
— Можно и на девятнадцатый. А зачем тогда спрашиваешь? — Теперь парень остановился, разглядывая Леденцова.
— Вижу, идёт знакомый, а не признаётся.
— Кто знакомый?
— Да ты.
— Я твой знакомый?
— Забыл, что ли? — нежно улыбнулся Леденцов.
— Чего забыл?
— Мы ж с тобой ходили в один детский садик…
— Какой детский садик?
— Назывался «Красная шапочка», а напротив было ПТУ «Серый волк».
— Ты забулдон, что ли? — спросил парень и звонко плюнул на асфальт, как выплюнул монету.
Леденцов вежливо высморкался:
— Не забулдон, но, если угостишь, рюмку-вторую приму.
— Катись-ка своим путём, псих неучтённый…
Парень рубанул ладонью воздух, как отогнал надоедливую осу, и зашагал к дому.
— Почему псих? — обиделся Леденцов, приноравливаясь к его длинноходному шагу. — Это ещё надо посмотреть, кто из нас псих…
— Может, посмотришь? — Парень резко обернулся, и Леденцов чуть не поджёг его грудь своим огненным чубом.
— Посмотрю. Скажи: чем отличается отец брата от брата отца? Отвечать быстро!
— Послушай ты, выкидыш! Если я тебя опять увижу за своим плечом, то из зелёного ты станешь синим. Понял?
— Но мне больше идёт зелёное…
Сильный толчок в грудь отбросил Леденцова к дереву, и он упал бы, не схватись за тёмный мёрзнувший ствол липы. Устояв, он тут же догнал своего нового знакомого и, опять приноровившись к чужому шагу, восхищённо заметил:
— Ты ходишь, как ублюдок… То есть, я хотел сказать, как верблюд.
Парень остановился и тяжело повёл пробойной головой, выглядывая людей. Они были, они, как всегда, торопились.
— Пойдём-ка туда. — Нацеленным подбородком он указал на детскую площадку.
Леденцов радостно кивнул.
Завесистые неосыпанные кусты скрывали грибок, скамеечки, каких-то козликов-осликов. Холодный песок был выровнен дождями. Площадка просматривалась только с окон верхних этажей.
— Ну что тебе надо, ржавая консервная банка? — сквозь зубы спросил парень.
— Цвет моих волос на ржу нисколько не похож.
— А скулы у тебя, случаем, не чешутся?
— Кстати, почему скула и кулак имеют один корень? — задал Леденцов языковедческий вопрос.
— Потому что кулак прикладывается к скуле, — ответил парень, сгребая Леденцова за ворот плаща и притягивая к себе.
Инспектор рассмотрел глаза, светлые, как песок на детской площадке. Крепкий, ледокольный подбородок, дрожащий от тихого бешенства. Те же самые скулы с кожей, готовой лопнуть от того же самого бешенства.
— Ну так кто я — верблюд или ублюдок? — выдохнул он вопрос в лицо инспектору.
— А ведь в данный момент ты совершаешь преступление, предусмотренное статьёй двести шестой уголовного кодекса…
— За рыжих ничего не бывает, — ухмыльнулся парень, сдавливая горло инспектора воротом плаща.
— Я имею право на самооборону, — прохрипел Леденцов с вымученной улыбкой.
— Может, попробуешь?
— Ага, попробую…
И сделал три быстрых и одновременных движения. Парень глотнул воздух и присел. Распрямлялся он медленно, как-то удивлённо, поглядывая на крышу грибка, словно она на него и свалилась. Встав, парень глубоко вздохнул и с вложенной силой ударил своего противника в нижнюю челюсть, как и Рябинина, хотел ударить в нижнюю челюсть, но его кулак лишь проехался по вскинутой руке инспектора. И тут же, пока этот кулак ещё не успел съехать с его руки и лицо парня оказалось в заманчивой близи, Леденцов резким взмахом ударил чуть повыше монолитного подбородка.
Парень свалился далеко, за грибком, у козлика-ослика. Он устало сел, отёр с губы кровь и неузнающе глянул на инспектора.
Леденцов с интересом шарил в своём кармане. Расчёска и зеркальце всё-таки нашлись. Он причесал встрепенувшийся чуб, посмотрелся в зеркальце, поправил галстук и вежливо спросил, переходя на «вы»:
— Не желаете совершить туалет?
Парень сидел на песке, о чём-то напряжённо размышляя. Ни гордости в подбородке, ни наглости в глазах…
— А ведь он не ждал удара, и у него очки, — сказал Леденцов и пошёл к проспекту.
Из дневника следователя.
Любовь к человечеству… Любви к человечеству лучше всего учиться на своих близких: на жене, на муже, на детях, на родителях…
Добровольная исповедь.
Сегодня всю ночь что-то и где-то скрипело. Поднимусь, обойду комнаты и ничего не найду. А лягу — опять скрипит. В голове, что ли, у меня? А может быть, Петельников с этим рыжим дурнем сверлят ко мне дырку, чтобы заглянуть… Рябинин-то работает.
Так и не спала. Встала в шесть утра, выпила пару чашек кофе, пару рюмок ликёра и огляделась…
В квартире становится всё лучше, а жить мне остаётся всё меньше. В квартире становится лучше, а жить мне становится хуже. Вот тоска откуда-то… Осень ли на меня влияет, биоритм ли мой кончился… Беспричинная тоска — это не стук ли в сердце потусторонней жизни?
Калязина позвонила в санэпидстанцию и, сославшись на головную боль, взяла свободный день. Затем позвонила в лабораторию и тоже освободилась. И ещё раз набрала номер телефона, уже районного клуба, где отменила своё выступление.
Голова болела. Бессонная ночь затуманила её странной опьяняющей пеленой. Собака, мебель, стены, дома, улицы… Всё вроде бы так, но всё чуть-чуть не так, всё чуть-чуть вдалеке, и всё слегка иррационально… Так бывало в молодости после африканских ночей, которые, бывало, жгли стены этой квартиры. Ах, давно ли? Теперь же так опустилась, что от пары рюмок ликёра впадает в жуткую иррациональность.
Прогулка с Роем освежила, но мир остался несвежим, сдвинутым.
Аделаида Сергеевна переоделась и вышла из дому — позвонить. Она не хотела, чтобы этот звонок был из её квартиры. И она вышла не только позвонить, потому что звонки в наше время становились началом больших дел.
Рассеянно пройдясь в сторону центра, Калязина глянула на часы и вошла в телефонную будку. Нужный ей номер она знала уже на память…
— Слушаю, — отозвался знакомый голосок.
— Веруша, не спишь?
— Что вы, Аделаида Сергеевна, уже десятый час.
— В лабораторию сегодня не ходи, есть другое дело.
— Я готова, — ответила ассистентка уже деловым тоном.
— Одевайся, Веруша, и к десяти часам будь у Центрального универмага, у остановки шестого автобуса.
— Хорошо.
— Примерно в десять пятнадцать — десять двадцать из шестого автобуса выйдет женщина лет пятидесяти в голубом плаще…
— Хорошо.
— Конечно, хорошо. В голубом плаще и с синей сумкой, похожей на ведро. Ты к ней подойдёшь.
— И что сделаю?
— Улыбнёшься и скажешь: «Какой чудесный плащик».
— Какой чудесный плащик, — запоминающе повторила ассистентка.
— Эта женщина передаст пакет. Скажешь спасибо и поедешь к себе домой. Вот и всё. Вопросы есть?
— А что мне делать с пакетом? — неуверенно спросила ассистентка.
— Не распечатывать, я за ним приеду.
— Хорошо.
— Милочка, это не шпионаж, не сомневайся.
— Аделаида Сергеевна, у меня подобного нет и в мыслях…
— Этой женщине я на расстоянии диктую мысли, которые она должна записать, запечатать и вручить сегодня тому человеку, кто ей скажет: «Какой чудесный плащик».
— Ах это опыт?
— Разумеется, милочка. Сколько ехать от тебя до универмага?
— Минут тридцать.
— В одиннадцать я позвоню.
До одиннадцати было два часа. Всё ещё закрыто, всё ещё запечатано. Но она знала привокзальный ресторан, демократичный, как баня…
Знакомый официант жеманно, улыбнулся, посадил её в угол пустого зала и скоро поставил перед ней подносик, целомудренно прикрытый хрустящей салфеткой. Она налила рюмочку бенедиктина, выпила залпом, как водку, и надкусила ломтик ананаса. Но ликёр никуда не дошёл, испарившись по дороге. Она выпила вторую.