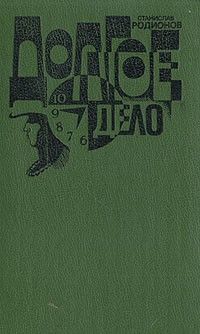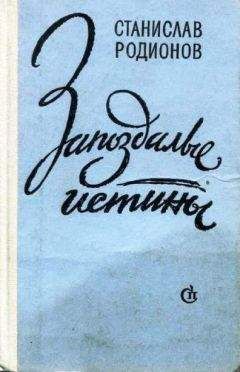— Чего тебе пожелать? — почти шёпотом спросила Лида, боясь нарушить эту минуту.
— Дел без доследований.
— Ещё…
— Дел без отсрочек.
— Ещё…
— Дежурств без происшествий.
Он перечислял свои беды, но Лида знала, что это ещё не беды, что у каждого следователя они есть настоящие, которые называются поражениями.
— Ну а ещё?..
— Чтобы я сумел разобраться в любом деле.
— И без пожеланий сумеешь. Ну а в нашей жизни?
— Чтобы ты любила меня все отпущенные нам годы.
— Так будет и без пожеланий.
— Чтобы вы с Иринкой были счастливы.
— Я же спрашиваю о тебе.
— А это и есть обо мне. Больше желать нечего…
Лида сползла на коврик и стала на колени, откуда было удобнее лицом дотянуться до рябининского лица. Её глаза он увидел почти у самых стёкол очков — большие, серые, с зеленоватым отсветом, словно где-то за ним она видела зелёные моря. Этот отсвет бывал, когда Лида волновалась.
— Больше желать нечего?! Нет, есть чего. Я желаю, чтобы ты вёл своё следствие спокойно. Чтобы после каждого допроса тебя не мучила изжога. Чтобы ты не сидел с каждым идиотом до ночи, пытаясь его перевоспитать. Чтобы перестал искать всякие истины, справедливости и смыслы. Перестал вступать в споры, от которых вред только тебе. Спокойно бы спал по ночам… Не расстраивался бы из-за каждого дурака… Не жалел бы каких-то пропойц… Не писал бы в дневнике: «Мужчины не плачут, что вы… Это душа моя плачет». Я хочу, чтобы ты…
— Стоп! — перебил он. — А ведь ты этого не хочешь.
— Как не хочу? — удивилась Лида.
— Вернее, хочешь сердцем, а не умом.
Сбившись, Лида молчала. Он погладил её волосы, блестящие, как солома на солнце.
— Если я выполню все твои пожелания, то это буду уже не я. А ведь ты любишь именно меня?..
В прокуратуру шёл он легко, помахивая весёлым портфелем.
Сорок… Это разве возраст? Жизнь только и начинается с тридцати пяти сорока. Молодость не видит второго плана. Ей подавай космической работы, сильных поступков, чётких пейзажей, громкой музыки и ярких красок. А в жизни столько неяркого, неброского, нешумного — и всё-таки прекрасного. Какая-нибудь травка или пожелтевший кустик, пряное болотце, мозолистая тропка, изба на отшибе… Женская улыбка, детское заковыристое словечко, приятельский хлопок по плечу… Выстругать полочку, сварить гречневую кашу, выбелить потолок, вырастить грядку репы… Чем наслаждается молодость? Главным образом, физическими и чувственными ощущениями: в своём теле силой, в работе — ловкостью, в человеке — внешностью, в друзьях количеством, в любви — успехом, в женщине — сексом, в одежде — модой, в вине — крепостью, в литературе — фабулой, в музыке — ритмами… Эти наслаждения первого, что ли, порядка, первой ступени. Они остаются, но с годами на них ложится второй порядок — тот незримый порядок мысли и чувств, который превращает наслаждения уже в истинные, в духовные. Тогда в труде ищешь творчества, в своём теле — здоровья, в человеке — сути, в дружбе испытанности, в любви — вечности, в женщине — женственности, в литературе правды, в вине — букета… А в жизни — смысла.
Вот тогда и начинаешь жить…
Он работал и всё старался понять, чего же сегодня ждёт от вызванных, от телефона, от пишущей машинки, от пролитого пузырька с чернилами. А он ждал. Не слов, не поздравлений, а какого-то нового к себе отношения; может, чуть необычного внимания. Свидетели попались вежливые, телефонные разговоры прошли спокойно, лента заправилась сразу, прокурор лишь спросил о приостановленном деле, и только пузырёк заартачился, не признавая никаких дней рождения.
Пришёл третий свидетель — торопливая женщина, нервно ждущая конца допроса. Рябинин записывал показания и думал, что несколько минут эта домохозяйка могла бы посидеть просто так: спросить о здоровье, о семейных делах, о работе — об этом следователей никогда не спрашивали. А могла бы стать и проницательной: если бывает проницательный следователь, то почему не быть таким и свидетелю? Могла бы спросить: «Кстати, у вас сегодня не день рождения? Вам, случайно, не сорок?» И он бы подтвердил, начав краснеть. Нет, он бы сперва стал краснеть, потом бы подтвердил и, вопреки закону, пригласил бы вечером в гости…
Она подписала протокол, не читая и не интересуясь той дракой о которой давала показания. Рябинин подумал, что ею чиркнут крестик. Он вложил лист в папку и посмотрел — стояла закорючка.
— Уж очень вы спешите…
— Хозяйство ждёт.
— У вас в квартире что, корова? — улыбнулся он: ему сегодня хотелось шутить.
— У меня в квартире бычок.
Рябинин скосил глаза на протокол — она жила в центре города.
— Вы имеете в виду… — начал он и остановился, не зная, что тут можно иметь в виду.
— Я имею в виду своего благоверного супруга. Ест да телик смотрит…
Свидетельница оживилась. Видимо, о муже она бы поговорила — тут бы она порассказала. Но сегодня Рябинину хотелось, чтобы всем было хорошо. Даже этому благоверному «бычку».
— Спасибо. До свидания.
Женщина, сидевшая весь допрос как на иголках, ушла нехотя.
Рябинин подошёл к окну, забрызганному осенью. Он родился в такой неяркий день, что человечество об этом забыло. Забыла и прокуратура, и это естественно: на земле четыре миллиарда с лишком, всех не упомнишь. Он ведь и сам забыл. Помнила только Лида.
Хорошее настроение уходило. Ему даже показалось, что пошёл мелкий, какой-то пыльный дождик… Но это завис лёгкий беленький дым, похожий на туман, — в парках жгли мусор.
Человечество о его дне рождения могло и забыть. Человечество. А отдельные люди?
Рябинин извлёк из портфеля дневник, развинтил ручку и сел к столу. Мысль, оскорбляющая и его, и его друзей, легла на бумагу: «Я радуюсь, когда не звонят друзья, товарищи, знакомые… Значит, им хорошо. Будет плохо позвонят.».
Он лёг головой на пишущую машинку и бездумно стукнул букву «л». Затем палец нажал на «и». Потом на «д». Последней отпечаталась «а».
— А ведь это подлость, — тихо сказал Рябинин машинке, которую он считал разумным существом, ибо на своём веку она столько выслушивала и напечатала, что не могла не поумнеть.
Он схватил ручку и стремительно перечеркнул дневниковую запись, вдавливая стальное остриё в бумагу. Что написано пером, того не вырубишь топором. Он хотел вырубить, чтобы потом не краснеть.
Не подлость ли? Самый дорогой человек помнит о его дне рождения, ищет в магазинах подарки, прячет их под подушку, треплет ему уши, покупает шампанское, готовит праздничный ужин и, наверное, отпросилась с работы и поехала за Иринкой… Чего же он хочет? Всеобщего празднества по случаю его тезоименитства? Телеграмм, делегаций, цветов и росписей в книге приёмов? Неужели человек и правда с годами глупеет? Допустим, с сорока?
Он схватил дневник…
«Мне сорок, и я это чувствую по своим мыслям и сомнениям. В молодости, бывало, я мнил из себя невесть что — непризнанного гения, сильную личность, моральное совершенство… Или наоборот — считал себя тупицей, распутником или подонком. Теперь за плечами сорок, и мне точно известно, что я не совершенство и не подонок».
Из-за приоткрытой двери высунулась дьявольская бородка. Рэм Фёдорович вошёл мягко, почти на цыпочках. Зато Димка Семёнов ступал от души.
— А что вы собираетесь делать-сегодня вечером? — елейно спросил Гостинщиков.
— Ну, у меня кое-кто соберётся…
— Позвольте узнать, зачем?
— Мало ли зачем.
— Товарищ Семёнов, приступайте. Покажите ему кузькину мать.
Жёсткая, тяжёлая ладонь легла на его правое ухо и огненно завертелась, словно точильный круг. Рябинин вцепился в дужку очков, чувствуя, как она нагревается вместе с кожей.
— Хватит, — приказал Гостинщиков.
— Ну, так зачем соберутся люди?
— Допустим, у меня день рождения…
— Не врёт? — узнал Семёнов у Гостинщикова.
— Сейчас узнаем. — И спросил вкрадчивым, сладким голосом, каким бабушки спрашивают внучат: — И сколько же вам годиков?
— Все мои.
— По-вторить! — весело приказал он Семёнову.
Теперь абразивный круг огненно лёг на левое ухо. Когда боль прошла и по ушной раковине растеклось тепло, Рябинин признался:
— Сорок. Ну и что?
— А нас пригласил? — спросили они в два голоса.
— И не подумаю.
— Влепить ещё? — спросил Семёнов у своего начальника.
— У него же только два уха, — глубокомысленно заметил Гостинщиков.
— Друзья приходят без приглашения, — тоже глубокомысленно изрёк Рябинин и добавил сорвавшимся голосом:
— Братцы, я сейчас заплачу от радости…
— Давай вместе, — предложил Димка, улыбаясь во всю ширину своего широкого лица.
— Поплачьте, мужики, поплачьте, — буркнул Гостинщиков, нервно мотая колышек бородки на палец.
В носу Рябинина действительно защекотало… Пыль — от бумаг всегда много пыли, будь это старые газеты или протоколы допросов.