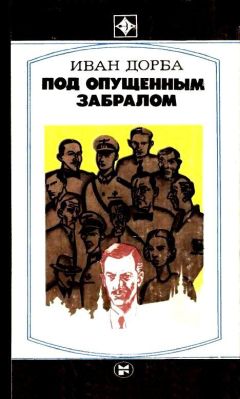— Резистанс! — И выпил до дна.
Вскоре мы, под хмельком, весело болтали. Я рассказал кое-что о себе и задавал, как бы между прочим, вопросы. Некоторые его ответы звучали неубедительно, и во мне какой-то неслышный звоночек предупреждал: что-то тут не так... что-то не так...
Жерар рассказал, что в соседнем вагоне едут его товарищи, пожаловался на трудное положение мужчин-французов призывного возраста, возвращающихся на родину, — немцы к ним всячески придираются, не пропускают, опасаясь Резистанс — Сопротивления, которое ширится по всей стране.
Пограничный вокзал бурлил своей обычной жизнью, точно некий огромный двигатель, неутомимо и постоянно перегоняющий людские потоки по залам, лестницам, перронам к неторопливо подходящим поездам, чтобы одну часть выплеснуть в город, другую вобрать в себя и отправить в глубь страны, а третью, в том числе нас, после строгой проверки, везти во Францию.
Пообедав в ресторане, я занял, за несколько минут до отхода экспресса, свое место в купе. Жерар стоял в коридоре и тщетно старался опустить окно.
«На всякий случай, если придется давать деру!»—подумал я и спросил:
— А в купе у нас не пробовали?
Он только отмахнулся. И продолжал свою работу... Вскоре поезд тронулся. Медленно подкатил к границе и затормозил.
Началась проверка документов. Через несколько минут к нам зашли в сопровождении проводника немецкий и итальянский жандармы. Я протянул свой аусвайс. Взглянув на него, видимо, предупрежденный заранее проводником, немец тут же, взяв под козырек, вернул мне документ. И повернулся к Жерару. Оба жандарма долго разглядывали его бумаги, потом что-то сказали вагоновожатому, и тот безапелляционно заявил:
— Господин Жерар, они отказываются вас пропустить, и вам придется с ними пройти к начальству.
Жерар на ломаном итальянском начал было протестовать, но пограничники, тыча пальцами, заявили, что нижняя печать на визе вызывает сомнения... Если начальник позволит, то пожалуйста...
Уж очень мне хотелось помочь симпатичному французу, и я решился:
— Lassen Sie, meine Herre, ihn ruich! Er muss gehen mit mir! Haben Sie ferstanden?[28]
Жандармы недоуменно уставились на меня, потом повернулись к проводнику. Тот взял немца под руку и что-то ему шепнул. Все трое вышли в коридор. Не прошло и минуты, которая показалась нам вечностью, немец вернулся, протянул Жерару документ и недовольно бросил:
— Alles ihn Ordnung![29]
Минуты тянулись томительно медленно. Каждый стук, шаги в проходе заставляли нас вздрагивать, настораживаться... Так прошло около получаса... и вдруг поезд тронулся — и у меня, и у Жерара вырвался вздох облегчения. Минута-другая — и мы пересекли границу... Я посмотрел на своего спутника и увидел в его глазах слезы. Он вскочил, кинулся ко мне и крепко обнял.
«Не всякое добро наказуемо!» — подумал я и не ошибся.
— Я никогда этого вам не забуду: я ваш должник и сделаю для вас все, что в моих силах! Запишите мой адрес: улица Шаброль, 25. Счастлив буду познакомить с женой. Приходите в любое время дня и ночи. А сейчас, извините, в соседнем вагоне едут мои друзья — я должен их успокоить!
Вскоре он вернулся с двумя бутылками бургундского, улыбчивый, довольный.
— Две я дал нашему доброму проводнику. У друзей тоже все хорошо. Бордосские вина клонят ко сну: французы пьют их на ночь; бургундские будоражат, располагают к беседе, к откровенности, к добру...
Жерар уже не скрывал, что он сбежавший из лагеря офицер, а друзья в соседнем вагоне — тоже.
— Нам всем состряпал визы один добрый человек... Ваш земляк... Вы ведь русский? И, наверное, эмигрант, потому что очень хорошо знаете наш язык и произношение у вас безупречное... Вот как получилось: визы смастерил нам русский- советский, а выручил тоже русский — эмигрант! Ха-ха-ха!.. Если хотите, познакомлю вас друг с другом.
— Согласен! — и подумал: «До чего интересно!»
— А теперь, мой дорогой спаситель, запомните: любое воскресенье жду вас к вечеру в доме номер 25 на улице Шаброль. Очень вас прошу: приходите!
Экспресс катил с бешеной скоростью, изредка ненадолго останавливаясь. Железнодорожные пути Франции—лучшие в мире. Вагон не раскачивало, он почти не вздрагивал на стыках рельс. Утром, в десять тридцать, мы прибыли в Париж. После стольких волнений Жерар мирно похрапывал рядом, а мне не спалось: «Что ждет меня во французской столице? Разумный человек должен остерегаться всего: жизни смерти, самого себя, тайны, которая прячется повсюду, людей, мрака и света... Но это не значит, что он трус! Чего же, в конце концов, я хочу, к чему стремлюсь, во что верю?.. Еду помогать немцу, а всей душой на стороне французов. Встречусь с Ниночкой!.. Но ведь я ей изменил: женился на Нюсе!.. И НТСНП, если по совести, меня не устраивает—начиная с того же Байдалакова, Георгиевского, да и Околовича... Ищу чего-то... Ищу... Какой-то правды, гармонии, соответствия...»
Замелькали сады предместья Парижа, и вскоре наш «Экспресс- Ориент» лихо подкатил к перрону. Встречающих было немного. В сторонке от толпы я узнал импозантного Владимира Поремского: он придерживал рукой шляпу. Рядом с ним стоял плотный, выше среднего роста мужчина, напоминавший чем-то медведя, и смотрел на проплывающие окна вагонов.
В памяти вдруг всплыл почему-то Новороссийск: иду по улице, а мне навстречу два лицеиста—Кановницын и Катков, с которым я подружился еще в приготовительном классе. Котяра!
Он заметил меня и первый, расширив руки, чуть переваливаясь с боку на бок, зашагал к моему вагону, а когда я появился в дверях, крикнул так зычно, что стоявшие кругом люди поначалу недоуменно обернулись... и заулыбались.
— Здорово, Володька! С приездом!
— Здравствуй, дорогой Кот!
Вышедший за мной Жерар вдруг остановился, нерешительно помялся и, хотя мы попрощались в купе, подошел с деланой улыбкой:
— Простите, господин Вольдемар, французы любят пошутить, но, вижу, русские от них не отстают: мне было невдомек, кто друг моего спасителя. Миль пардон, — он повернулся к Каткову.
— Ведь месье — брат нашей «Кошечки»?
Последнее слово он сказал по-русски и тут же обернулся к своим спутникам, которых встречали какие-то люди, и помахал им рукой. А они сердито поманили его к себе. Жерар растерянно измерил взглядом Каткова, пробормотал: «Миль пардон!» — и направился к ним. Потом, вернувшись с полдороги, обратился ко мне:
—Не обессудьте: голова идет кругом! Прошу вас, не забудьте, обязательно приходите! Буду вас ждать! Еще раз спасибо!
В этот момент к нам подошел с приветливой улыбкой Поремский и, пожимая мне руку, спросил:
— Что за люди?
— Симпатичный парень, француз, вместе ехали. Чудак! — И подумал про себя: «Если ты такой осторожный, то и я от тебя не отстану».
— Иван Михайлович настоял на том, чтобы вас поселить покуда у него. Поживите, освойтесь, а там посмотрим.
Не прошло и нескольких минут, как мы уселись в новенький «рено» Ивана и покатили по улицам Парижа... Тихого, безлюдного, словно пришибленного...
Катков работал репортером в газете правого толка под названием «Возрождение», пожалуй, самой интересной и влиятельной белоэмигрантской газете, имеющей высоких покровителей: широко известных финансистов, начиная с Манташева... Он-то и устроил туда Каткова, поскольку считал себя во многом обязанным его деду — тайному советнику, основателю Московского лицея Цесаревича Николая.
Неподалеку от Дома инвалидов Поремский поглядев на часы, попросил остановиться:
—Опаздываю на свидание, завтра заеду, потолкуем, а сейчас советую отдохнуть с дороги! — И, пожав нам руки, захлопнул дверцу.
Просторная квартира Ивана с окнами в сад и на улицу, несмотря на «поэтический» беспорядок, казалась уютной и обжитой.
— Раздевайся! Чемодан можешь поставить в прихожей, а тебе предлагаю устроиться в гостиной. Кстати, как твое отчество?
— Как у Поремского.
— Значит, Дмитриевич! Придется сесть между вами и загадать желание! Надо же — полный тезка!.. А ты исповедуешь солидаризм? Фашизм?! Как же так, Володька?!
— Учти, Иван, солидаризм противоположен фашизму! Нет речи о высшей расе, напротив — все люди, все народы имеют одинаковые права! В какой-то мере это соблюдалось после революции пятого года в царской России, когда были отменены фактически привилегии дворянства.
—Ха! Значит, чтобы дворяне, записанные в «бархатную», и прочие—купцы первой гильдии, второй, третьей, мещане, крестьяне, рабочие, люмпены — жили солидарно?! Какое согласие может быть между знатным и безродным, богатым и бедным, талантливым и бездарным, умным, наконец, и глупым?.. И объясни, почему тогда «солидаристы» из НТСНП намереваются ехать на поклон к Гитлеру, исповедующему фашизм?!
Я недоуменно пожал плечами. «Почему Байдалаков мне об этом ничего не сказал?.. На какой поклон?..» — подумал я и ответил: