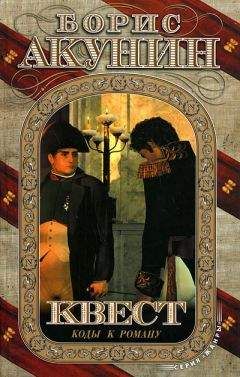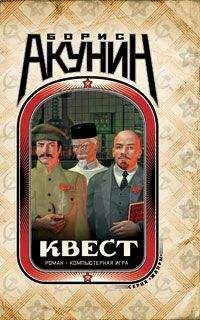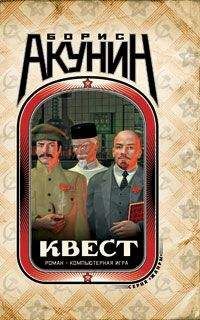А Фондорин действительно ободрился. Тяжким сомнениям настал конец. Отчизна снова была в смертельной опасности. Спасти её мог только он один.
— Что ж, сударь, я готов, — сказал профессор, поправив дужку очков.
III.
Армия хоть и уменьшившаяся в размере, но всё ещё Великая, шла сначала на запад — по безлюдной, донага обобранной фуражирами местности. Потом вдруг повернула на юг.
Леса стояли голые и притихшие, убранные поля беззащитно простирались до горизонта, по утрам солнце нестерпимо сверкало на застывших лужах, тонкая ледяная корочка хрустела под копытами, колёсами, сапогами.
Всё в эти первые дни благоприятствовало походу. Идти по прихваченной ночными заморозками дороге было весело. В небе французской расцветки — то синем, то белом, то красном — кричали птицы, летевшие в том же южном направлении. По обе стороны шоссе, держа дистанцию в несколько километров, двигались конные отряды. Партизаны нападать на них не осмеливались, робея этакой силы. Деревни вокруг были не тронуты, и впервые за осень лошадям хватало фуражу, а солдатам хлеба и мяса. Шли лихо: французы с барабанами, немцы с флейтами, итальянцы с песнями. Русская кампания оказалась тяжёлой и кровавой, но тем, кто выжил, жаловаться не приходилось. Обоз, нагруженный московскими трофеями, состоял из многих тысяч повозок, а у каждого солдата ранец был набит всякой всячиной. Ценились вещи дорогие, но нетяжёлые. Кавалеристы, у которых в седельных мешках места было больше, по неслыханному курсу меняли пехотинцам золото на серебро.
Императорский поезд держался ровно в середине тридцатикилометровой колонны. Эти места Фондорину были родные. Не столь далеко находилась усадьба, где тому двадцать четыре года он появился на свет, а ещё дальше, всего в десятке вёрст от Новокалужского тракта, располагалось имение Гольмов, Кирино приданое. Здесь молодые провели медовый месяц, главным образом потраченный на собирание полезных для лабораторного использования кореньев; здесь же, в сельской церкви, венчались.
24 октября, после ночлега, обоз, как обычно, тронулся в путь, но через несколько часов остановился, получив приказ очистить дорогу. По ней ускоренным маршем шли полки, скакала конница. Впереди, минуту от минуты нарастая, гремела канонада.
Сначала говорили, что остановка будет недолгой, но бой затягивался. Поступила команда распрягать. В деревне (Самсон её хорошо знал, она называлась Городня) развернулся императорский штаб. От ординарцев, что один за другим прибывали из гущи сражения, поступали известия: русские пробудились от спячки и пытаются загородить французам путь в неразорённые западные губернии. Ключом к Новокалужской дороге стал городишко Малоярославец, за который ныне идёт сражение. Обе армии на марше, и битва получается суматошная — то подойдёт свежая французская дивизия и захватит поселение, то подоспеют русские силы и вышибут неприятелей обратно.
Наполеон, которого профессор мог наблюдать издали, сначала был спокоен. Он расположился на завтрак и выслушивал донесения, не вставая с походного кресла. Однако дело затягивалось, а победы всё не было. Тогда император сел на коня и, сопровождаемый свитой, ускакал в направлении баталии.
Прошёл слух, что улицы городка завалены телами, что убиты генералы Дельзон и Левье, а ещё несколько военачальников ранены.
Лишь к вечеру, после седьмой или восьмой атаки вице-король сумел взять разрушенный городишко и удержаться в нём. Спасительная дорога на запад была открыта, но все видели, что государь вернулся в ставку мрачней тучи. В лагере говорили, что потери огромны, а впереди грядёт новое сражение, ещё более кровопролитное, ибо за ночь maréchal Koutouzoff успеет подвести всю свою армию. Значит, опять, как перед la grande bataille de la Moscova,[167] предстоит обстоятельная подготовка, а затем новая генеральная баталия… В победе никто не сомневался (Маленький Капрал всегда побеждает), однако настроение в войсках было угрюмое. Кому охота умирать, если ранец набит золотом, а война казалась уже законченной?
В отличие от обозных, которые весь день провели без дела, расспрашивая ординарцев и раненых да судача о будущем, Самсон Данилович на месте не сидел. У него было дело неотложной важности. Как только стало ясно, что императорская квартира остаётся на ночёвку в Городне, профессор написал записку светлейшему.
«Ваша светлость, — говорилось в письме. — Вас смеет обеспокоить тот самый Фондорин, университетский профессор, коего в канун выступления вашего из Москвы вы удостоили беседы, надеюсь вам небеспамятной. Имею честь доложить вашей светлости, что ныне я близок к цели, как никогда прежде. Главный штаб Бонапарта, при котором я состою, расположился в деревне Городня. Охраны вокруг мало, ибо войска растянуты вдоль тракта. Лесным оврагом, что тянется от реки Протвы, возможно скрытно выйти чуть не к самой деревенской околице, где я буду поджидать. Манёвр надобно осуществить ночью и дождаться рассвета, чтобы командир мог меня узнать. На мне будет приметная шляпа с белою лентою, а руку я повяжу алым платком. Повелите начальствующему офицеру исполнять то, что я скажу. Ежели предприятие с Божией помощью удастся, исход кампании будет счастливо решён».
Оставалось передать депешу по назначению. Дело представлялось не столь трудным. Едва кареты и повозки встали лагерем, за цепью охранения — на краю поля, у опушки леса, над берегом речки — замаячили верховые казаки, будто оводы, витающие над громоздкой тушей Великой армии. Они и жалили, как оводы: то пальнут издали, то налетят с гиканьем и свистом на пикет послабее. Перестрелка между казаками и дозорными не стихала в протяжение всего дня. Самсону только и надо было — выбраться за линию дозоров, не угодив под пулю с той или этой стороны. Сначала он думал прибегнуть к помощи берсеркита, но нашёл способ попроще.
Овраг, поминаемый в письме к фельдмаршалу, огибал Городню саженях в двухстах от северной околицы. Туда-то профессор и направился.
— Куда вы, доктор? — спросил его сержант из охранения. — Это опасно.
— Мне нужно поискать корней для обработки ран, — с важным видом ответствовал Фондорин, присовокупив несколько мудрёных латинских названий. — Казаков я не боюсь. Главное, чтобы ваши молодцы меня не подстрелили на обратном пути. Я специально повязал шляпу белой лентой.
От сопровождения он отказался и, не взирая на увещевания, пошёл к оврагу. Спустившись по склону, Самсон перешёл на бег, зарысил по чавкающей земле прочь от французского лагеря. Отдалившись на изрядное расстояние, достал свисток, память о бравом полицейском поручике, и стал в него дуть. Не прошло пяти минут, как наверху захрустели ветки. По склону, пригнувшись к луке, лихо слетел бородач в синем кафтане — и уж целил пикой прямо в живот профессору.
— Я свой, русский! — крикнул Самсон, держа охранную грамоту светлейшего в вытянутой руке. — К вам иду! У меня аттестат от самого Кутузова!
То ли казак не поверил, то ли не знал слова «аттестат», однако ж, отнёсся к «своему» безо всякого почтения. Пикой, правда, не пырнул, но пребольно стукнул Фондорина древком по голове, а когда молодой человек упал, спрыгнул наземь и принялся деловито шарить по его карманам. Всё, что находил — подзорную трубку, бархатный футляр от очков, даже носовой платок — засовывал себе за кушак. «Сейчас дограбит и прикончит!» в ужасе подумал профессор.
Он впервые наблюдал представителя вольного степного сословия вблизи и очень хорошо понял, почему французы относятся к казакам с такой антипатией. Самсону бородач тоже категорически не понравился. От него несло кислой овчиной, в ухе, как у дикаря, сверкала серебряная серьга, глаза были налиты кровью. Кроме того, грех сказать, у профессора возникло подозрение, что донец крутился у неприятельскою лагеря не из разведывательных или иных похвальных видов, а лишь в поисках добычи.
— У меня донесение к фельдмаршалу Кутузову! Срочное! Понимаешь ты, к Кутузову!
Казак ответил матерно. В переводе на приличный язык реплика означала «мне нет дела ни до какого Кутузова», причём фамилия заслуженного полководца была срифмована самым малопочтенным образом.
Самсон Данилович вздохнул. Трудно жить на свете без химии. Иногда и совсем невозможно.
— Выпить хочешь? — спросил он. — У меня есть.
— Где, …? — спросил казак, даже к этому короткому слову присовокупив непристойность.
Фляга с заранее смешанным берсеркитом лежала за пазухой, куда грабитель ещё не добрался. Фондорин достал её, отвинтил крышечку.
— Не отрава, не бойся. Вот, гляди, сам отпиваю.
Он сделал один глоток, и соотечественник тут же вырвал сосуд из руки пленника. Понюхал, плотоядно оскалился, но выпить уже не успел.
Упругая волна, зародившись в чреве профессора, прокатилась по всему его телу. Взор прояснился, слух внимал колыханию каждого сухого листочка на голых деревьях.