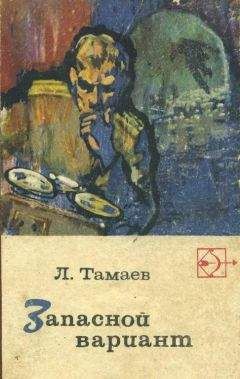— Почему ты не завтракал? Или совсем разболелся?
— Нет, я здоров, — сказал Игорь, пряча в тумбочку дневник.
— Здоров? — мать удивленно посмотрела на него. — Почему же тогда не на работе?
Игорь встал, молча начал одеваться. Мать снова спросила, что с ним. Но Игорь опять ничего не сказал, делая вид, что распутывает шнурок на ботинке.
Мать не стала больше спрашивать. Она только обвела пристальным взглядом маленькую комнату сына, словно надеясь найти разгадку непонятного его поведения. И пошла на кухню.
Завтракали они по обыкновению молча. Но необычным было само молчание: Игорь все время чувствовал на себе изучающий взгляд матери. И ждал ее вопроса. В третий раз. После этого уже нельзя будет отмалчиваться, придется все рассказать… И он, торопливо допивая горячий чай, внутренне готовился к неприятному разговору, обдумывая, как лучше все это преподнести матери, чтобы меньше расстраивать ее и тревожить…
Но мать так ни о чем и не спросила. Она стала убирать со стола, мыть посуду. Потом ей понадобилась свежая вода, а в ведрах, прикрытых фанерными кружками, было пусто.
— Давай я схожу, — сказал Игорь и усмехнулся: — Может, в последний раз…
Когда он возвратился, мать с нескрываемым беспокойством спросила:
— Что с тобой, Игорь?
— Суши, мама, сухари. — Он хотел отшутиться, но шутка вышла невеселая. — Меня вызывают в КГБ.
Мать тяжело опустилась на стул, положила руку на сердце.
— Зачем?
— Для задушевных бесед, по-моему, туда не приглашают…
— …Мне исполнилось девятнадцать лет, когда к нам на Украину пришла война. — Голос Никольчука, записанный на магнитофон, звучал глуховато. Откинувшись в кресле, Маясов внимательно вслушивался в этот голос, и казалось, в комнате незримо присутствует еще один человек. — За год перед этим я окончил школу, работал в редакции газеты… Я любил Украину, но по-своему. И когда заговорили националисты — поверил им, начал сотрудничать в их газете, которая издавалась на средства оккупантов… За этой ошибкой последовала другая — я поступил на службу в немецкую комендатуру: там больше платили…
Маясов остановил магнитофон, достал из сейфа папку с ответами на запросы в несколько районов Украины, где в годы немецкой оккупации служил в полиции Алексей Михайленко. Пролистав несколько бумаг, майор снова включил аппарат, с помощью которого он решил сегодня проанализировать ход следствия по делу Никольчука, арестованного две недели назад.
— …Когда немцев погнали с Украины, куда мне было деваться? Я ушел с ними. Второго апреля, в сорок пятом, меня в Будапеште арестовали и осудили военным трибуналом. Дали десять лет лагерей… В камере предварительного заключения со мной сидели два дезертира, они подбили меня на побег. Нам это удалось. Но они пошли на восток, на родину, а я подался в обратную сторону. Боялся… Вскоре я очутился на территории Западной Германии, стал одним из тех, кого называют «перемещенные лица»… А потом попал на крючок американской разведки. После обучения в специальной школе, как я уже вам рассказывал, в марте прошлого, шестидесятого, года меня посадили на самолет и ночью выбросили с парашютом в районе Ставрополя, в степи…
Маясов достал из папки акт экспертизы о парашюте Никольчука: его действительно нашли в том месте, которое указал арестованный.
Просматривая этот акт, Маясов вспомнил рассказ капитана Дубравина, вылетавшего вместе со следователем и экспертом в Ставрополье.
…Никольчук, бывший с ними, не сразу нашел нужную балку. Они проплутали около двух суток. Попали под страшный ливень, следователь загрипповал, и Дубравину пришлось отправить его в сопровождении эксперта до ближайшей станицы. Оставшись вдвоем, капитан и арестованный продолжали поиски.
На крутом спуске в овраг Дубравин, оступившись, вдруг упал. Никольчук, который шел впереди, обернулся, бросился было к нему, но капитан тут же поднялся во весь свой могучий рост, кивнул, чтобы Никольчук шел дальше.
Этот случай насторожил Дубравина: помочь хотел Никольчук, или?.. В душу закралась тревога: не опрометчиво ли поступил, оставшись с арестованным один на один в степи?
Дело в том, что, спешно вылетая из Ченска, он не взял свой пистолет. Попросить же оружие у заболевшего следователя не решился: трусом себя капитан никогда не считал, силой его бог не обидел, к тому же следователь из областного управления, старший в их группе, не погладил бы по головке, узнав, что он, Дубравин, прибыл на задание без пистолета.
В общем нелепо получилось. И теперь капитан чувствовал себя так, будто в стужу его вытолкнули на улицу босиком. Это ощущение еще усилилось, поскольку наступала ночь.
Остановившись на ночлег на дне балки, они насобирали большую кучу хвороста, прибитого половодьем. Но хворост был сырой, и, чтобы разжечь его, требовалось нащепать лучинок для запалки.
Большой, вроде финского, нож нашелся в чемодане эксперта, который остался у Дубравина. Только кто должен колоть этим ножом лучину? Если сам Дубравин, то ему нужно для удобства присесть на корточки, а это будет исключительно невыгодная поза: ухватив сзади за шею, Никольчук может задушить его, как котенка. Остается другое — поручить работу арестованному. Но это значит дать ему в руки нож, оставаясь совершенно безоружным…
«Придется, наверное, обойтись без костра», — подумал капитан и при вспышке красного огонька сигареты увидел (или ему показалось), что толстоватые губы Никольчука дернулись в иронической усмешке, словно он догадался о его беспокойных мыслях. Дубравину стало не по себе, и он молча протянул нож арестованному.
Наконец костер был раздут, и они легли спать, подложив под бока по охапке прошлогодней травы.
К середине ночи небо вызвездило, стало еще холоднее. Никольчук беспокойно завозился на своем жестком ложе, поднял голову, пристально всматриваясь в лицо Дубравина. Капитан прикрыл глаза, сделал вид, что крепко спит. Никольчук встал на колени, протянул в темноту руку, вытащил за черенок заступ. Дубравин лежал не шевелясь, сжав под оглушительно стучавшим сердцем тяжелые кулаки, следил за каждым движением арестованного, готовый вскочить при первой опасности. Перехватив в руке черенок, Никольчук стал шуровать в головнях затухавшего костра.
В темное небо взметнулись иголки красных искр. Подбросив в огонь хворосту, Никольчук лег на другой бок, и вскоре опять послышалось его ровное похрапывание…
Когда, вернувшись в Ченск, Дубравин доложил о степных злоключениях Маясову, тот проявил к ним большое любопытство. Причину его заинтересованности капитан понял не сразу. Откровенно говоря, он ждал от начальника нахлобучки за то, что выехал на задание без оружия. Но Маясова ночная история заинтересовала совсем с другой стороны. Он определил ее как случайно состоявшийся следственный эксперимент и после рассказа Дубравина долго расспрашивал его о подробностях. Маясов хотел найти ответ на возникший у него тогда вопрос: не пытался ли Никольчук использовать благоприятную обстановку для своего освобождения, для побега?..
Теперь, у замолкшего магнитофона, Маясов еще раз подумал над этим. Потом нажал кнопку, и аппарат стал рассказывать о деятельности американского агента после его проникновения на территорию Советского Союза.
— …Выполняя задание центра, я должен был приехать в Ченск, изучить на месте обстановку и организовать сбор секретной информации о технологии производства и о продукции экспериментального химзавода. Добытые сведения мне приказали сообщать тайнописью в письмах бытового характера, которые я должен был направлять в подставные частные адреса… Но никакие напутствия полковника Лаута и его помощников мне не пригодились. Когда я вступил на родную землю, я почувствовал себя другим человеком. Во мне все более зрела мысль — не работать на американскую разведку.
Однажды в Ченске мне попалась в газете статья «Явка с повинной». Из нее я окончательно понял, что только честный труд поможет мне стать человеком.
И я твердо решил прийти с повинной в органы госбезопасности… Почему я этого не сделал? Я колебался, боялся ответственности, тянул, пока вы случайно не наткнулись на меня… Ну, может, и не случайно, я не знаю, поскольку, вы говорите, вам помогает народ. Не стану отрицать. Я говорю в том смысле, что если бы вы не взяли, не арестовали меня, я все равно бы к вам пришел. Рано или поздно. Это был лишь вопрос времени…
Маясов сделал несколько коротких записей в своей рабочей тетради. А глуховатый голос между тем продолжал:
— …Как я уже сообщил на первом допросе, после моей неявки на встречу со связником — в московском ГУМе — этот связник, женщина, назвавшаяся Барбарой Хольме, разыскала меня в Ченске. Чтобы избежать их мести за прямой отказ от сотрудничества с ними, я тогда сказал Хольме, что согласен работать. Но про себя думал: работать не буду. Хольме же мне изменила задание, сказала, что с некоторого времени Ченский экспериментальный завод их больше не интересует, а надо организовать добычу информации о продукции химкомбината в Зеленогорске. Я согласился, заявил, что готов приступить к выполнению этого задания, но мне нужны деньги, так как предстоят новые крупные расходы. Я так сказал, чтобы побольше выжать из них денег, но про себя окончательно решил с разведкой Лаута порвать…