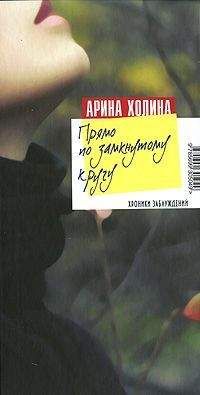— Для того чтобы вы меня поняли, я должен начать издалека, со студенческих лет, с первой женитьбы. — Он помолчал. — С Клавой мы жили хорошо, у нас родился мальчишка, назвали его Александром. Потом… я подолгу отсутствовал, уезжал с геологической партией. Однажды, когда я вернулся, Клава рассказала мне… Словом, мы разошлись… Но к Саше я ходил часто, к нему у меня сохранилась глубокая привязанность. Два года назад я женился. Света моложе меня на восемнадцать лет. Как всякая молодая женщина, она несколько эгоистична. В этом году Александр получил осеннюю переэкзаменовку по математике. Восьмого я пришел к нему в пять часов, и мы работали с ним до одиннадцати. Сказать об этом Свете я не могу, она болезненно ревнует меня к прошлому. Вот истинная правда.
— Все, что вы говорите, может подтвердить мать Саши, домашние?
— Да, конечно. Я могу идти?
— Да. Скажите, сын сдал переэкзаменовку?
— Получил четверку.
— Поздравляю. — Я проводил Ивакина до двери.
Весь день прошел в изучении литературы, присланной Кашириным, а утром, придя в управление, я уже застал в кабинете Лунева.
— Федор Степанович, — сказал он, — у подъезда в машине вас дожидаются архитектор Кержавин и участковый милиционер. Надо ехать в тупик Клевцова.
— Хорошо. Евгений Корнеевич, предупредите полковника, чтобы… — Я посмотрел на часы: — Сейчас девять пятнадцать… чтобы Ежова вызвали к десяти часам. Дождь идет?
— Шел всю ночь, но сейчас перестал, не знаю, надолго ли…
Я спустился вниз. Небо, затянутое серыми облаками, было по-осеннему угрюмо.
Клевцов тупик оказался не близко.
Сперва мы постучались в дом № 5, представились хозяевам, двум старым пенсионерам. Обмерили двор рулеткой, заглянули в сарай, в дом. Сказали доброе людям, извинились, что потревожили их, и как раз успели к десяти часам. Вышли из ворот, провожаемые хозяевами, и увидели Ежова. Он шел быстро, запыхался, но все же спросил:
— Что за спех, дорогие товарищи?
Архитектор Кержавин объяснил ему, мне кажется, достаточно убедительно. Хозяин достал из кармана ключ, открыл калитку и пригласил зайти.
Злобно рыча, пес бросился к нам на длину цепи.
Ежов подошел к собаке и ударил ее ногой. Пес взвизгнул и залез в будку.
— За что вы его так? — спросил я.
— Пусть знает свое место!
— Жестоко и несправедливо!
Ежов принимал деятельное участие, помогал обмерять двор и постройки, держа за кольцо мерительную ленту.
Бросался в глаза чисто подметенный двор, очевидно, недавно. За крыльцом куча мусора и метла. На заднем дворе слабо просматривается след автомашины, колея «Москвича». След протекторов вел на параллельную улицу.
В это время Кержавин, обмеряя с хозяином фасад, хвалил добросовестность сооружения. Ежов понимающе поддакивал, стараясь угодить, влез на перила крыльца и потянулся с рулеткой к карнизу.
Я нанес в блокнот чертеж дома, затем попросил открыть сарай, заглянул — поленница березовых дров, старая рухлядь, кресло с выпирающими пружинами… Обошел крыльцо, меня заинтересовала мусорная куча. Хозяин вчера не заходил домой, а двор чисто выметен… И этот след от протекторов… Машина шла по двору во время дождя, следовательно, это было после шести часов. В куче мусора щепки, возле сарая кололи дрова, очистки огурцов и яблок, палые листья березы, ветки, несколько пустых банок из-под консервов, обертки сигарет, какой-то лоскут многоцветья… Пользуясь тем, что Ежов завернул за угол дома, я ногой раскидал мусор… Это оказался клочок от платка с радугой и белым парусом — платок Тарасова!
Ежов пошарил рукой за наличником, достал согнутую и расплющенную на конце проволоку, вставил ее в отверстие и отбросил задвижку.
Комната описана Тарасовым точно — свадебные портреты Казимира и Ефросиньи.
Я вышел на кухню и спросил Ежова:
— У вас погреб есть?
— Как же, родители строили для себя.
— Товарищ Кержавин, посмотрите из погреба фундамент, — сказал я архитектору.
Ежов приподнял творило и зажег в погребе электрический свет, Кержавин спустился вниз.
— А куда ведет эта дверь? — спросил я Ежова.
— Комната покойной жены Ефросиний Мартыновны. Все осталось как при ней, священная реликвия. Пять лет не заходил и даже ключ не знаю где.
По словам Тарасова, в ночь, проведенную им здесь, пахан не выходил из дома. Очевидно, это его комната.
Из подвала вылез Кержавин и, похвалив фундамент, мимоходом сказал:
— У вас большое хозяйство.
— Были грузди своего посола — кончились. Есть капуста, огурцы. Может быть, товарищи, погода сырая, сообразим по сто граммов, под огурчики…
— Благодарим, но мы на работе, — отказался я. — Что же вы, товарищ Ежов, так скучно живете? Один как перст… — сочувственно сказал я.
— Мне пятьдесят пять. Брать молодую — в дураках можно остаться. Брать старуху… Нет, дорогой товарищ, живем для дел, приносим пользу, и то ладно…
Это было так неискренне, так фальшиво, что я невольно улыбнулся. Ежов понял, что переборщил, и, лихо подкрутив усы, добавил:
— К тому же не перевелись на свете добрые женщины!..
Мы вышли из дома, Ежов проводил до машины. Кержавин поблагодарил хозяина, и мы поехали. Как только машина свернула из тупика на улицу, архитектор сказал:
— Если я вас правильно понял, Федор Степанович, вы поручили мне посмотреть в погребе пол и, если он земляной, обнаружить следы, оставленные лопатой. Пол выложен кирпичом на растворе и зацементирован. Никаких следов свежей кирпичной кладки.
— Спасибо, Иван Васильевич, вы действовали со знанием дела. Большое спасибо.
Шагалов ждал меня.
— Думаю, то, что я вам расскажу, соответствует истине, хотя и требует дополнительной проверки, — начал я. — В шесть часов Тарасов ушел от Любы в тупик Клевцова. Около семи часов он постучал в калитку. По-моему, старик снимает жилье у Ежова. Комната, в которую ведет вторая дверь из кухни. В те дни, когда он пользуется комнатой, Ежов с работы не приходит и не ночует дома. Старик услышал стук, посмотрел в щелку и, узнав Тарасова, открыл калитку. Какой между ними произошел разговор, я не знаю, но старик понял, что Тарасов все рассказал об их встрече на вокзальной площади. Старик убивает Тарасова, волочит тело в машину и укрывает парусиной, из которой сделаны чехлы на сиденье. — После этого забирает из своей комнаты все, что может служить против него уликой. Тщательно подметает двор, сглаживает отпечатки протекторов, следы борьбы, волочения, и вот здесь он обнаруживает втоптанный в грязь платок, принадлежащий Тарасову. Он пытается его сжечь, но сырой платок горит плохо. Опасаясь, что за Тарасовым кто-нибудь придет, он торопится, заметает недогоревший платок в кучу мусора и выезжает из дома через разобранный забор на смежную улицу, а оттуда по шоссе в лес, где прячет в кустах труп. К Ежову старик больше не придет, хотя и встретится с ним в магазине или другом месте.
— Надо изолировать Ежова и произвести обыск, — сказал Шагалов.
— Пока непосредственно против Ежова улик мало, и прокурор не даст санкции на арест. Кроме того, наблюдение за Ежовым может вывести нас на старика.
— Пахан или старик? Вы называете его по-разному.
— По тем скудным сведениям, которыми мы располагаем, — это старик. Тарасов называл его паханом, что значит «отец». А когда я строил версию расследования, то условно называл его «Маклером».
— Давайте остановимся на одном, пусть будет «Маклером». Вы рассказали правдоподобную историю убийства Тарасова и последующие действия «Маклера», но это ни на шаг не приблизило нас к его раскрытию. Почти неделю мы ведем наблюдение за Авдеевым, пока впустую. Приехал капитан Гаев — опознание ничего не дало… Продавщица из пивного ларька и женщина со станции Зеленая Падь никого не опознали.
— Где капитан Гаев? — спросил я.
— Он уехал в гостиницу, а Лунев у вас в кабинете.
— Завтра я поеду к живописцам…
— Вы достаточно подготовлены?
— Впереди еще ночь. Хорошо, Владимир Иванович, мы все оговорим позже.
Лунев слушал звукозапись Тарасова. Я молча поздоровался и, чтобы не мешать ему, взял рапорт по наблюдению за Авдеевым, просмотрел — ничего нового.
Я отпустил Лунева, а сам поехал к Любе.
Прояснилось небо. На солнце сверкали капли, падающие с крыш и деревьев. Машины поднимали веера брызг. Босые мальчишки, задрав штаны, бежали по обочинам навстречу бурным потокам. Словом, город выполз из ненастья и засверкал свежими красками. Только у меня по-прежнему на душе было скверно. Ехал я с каким-то дурным предчувствием. Лунев сказал, что на завод Цветаева не пошла, а Маришка в яслях.
Я застал Любу за работой, она гладила мужские брюки, была молчалива и сосредоточенна. Когда я вошел и поздоровался, она бросила на меня вопросительный взгляд и снова взялась за утюг. Впервые я видел ее с распущенными волосами, такую домашнюю, простую.