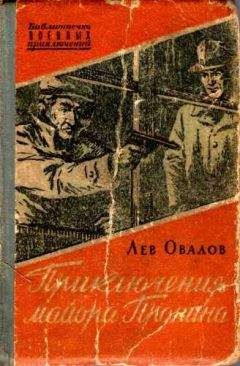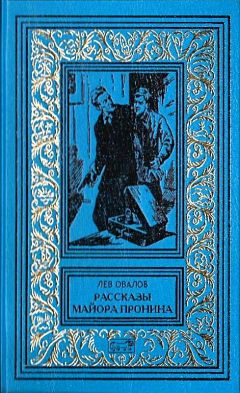– Мне, – говорю, – гражданку Борецкую надо.
– Я и есть Борецкая, – отвечает она. – Что вам от меня, матросик?
А в матросики я попал за свой бушлат. Уезжая из Москвы, получил я ордер на обмундирование, а на складе ничего, кроме бушлатов, не оказалось. Так и пришлось мне вырядиться матросом, хоть и не был я никогда моряком.
Подаю ордер.
– Вот, – говорю, – послали до вашего дома…
– А известно ли вам, матросик, – говорит мне эта бывшая владелица дома, – что у меня охранная грамота на всю жилищную площадь имеется?
– Известно, бабушка, – говорю, – только куда же мне сейчас вечером деваться, жилищный отдел закрыт, а знакомых в городе не имеется…
– Где же вы, матросик, служите? – спрашивает она меня.
– Нигде не служу, – объясняю я ей, – я по инвалидности на пенсию переведен и прибыл сюда на поправку.
– А дрова вы колоть можете? – спрашивает она.
– Почему же, – отвечаю, – не поколоть…
– Так заходите, – говорит она, – все равно ко мне кого–нибудь вселят, такие уж теперь времена, а вы, кажется, симпатичный.
Впустила она меня в особняк, заперла дверь на засовы и цепочки, велела хорошенько вытереть ноги и повела по комнатам… Не приходилось мне видеть такой богатой обстановки в домах! На окнах шелковые занавеси, стены тоже обтянуты шелком, отделаны деревом, мебель полированная, украшена бронзой и позолотой, хрустальные горки, и всюду – на полках, на столах, на этажерках – стояла нарядная посуда: вазы, блюда, чашки и всякие разнообразные фигурки.
Провела она меня через эти роскошные комнаты, ввела в комнату попроще и поменьше, но тоже хорошо обставленную и, пожалуй, слишком нарядную для такого молодого человека, каким я в то время был.
– Вот, устраивайтесь, – говорит. – В этой комнате у меня племянник помещался. Он теперь под Псковом живет, в деревне. В учителя поступил. – Она помолчала, вздохнула. – Теперь я совсем одна…
Устроиться мне было недолго. Все мои вещи находились в небольшом фанерном чемодане, да и вещей было не густо.
Вечером старуха заглянула ко мне.
– Ну как, устроились? – спрашивает.
Осмотрела комнату, поглядела на мой жалкий скарб и только руками всплеснула.
– Белья–то у вас нет?
Принесла простыни, подушку, помогла устроить постель, чаю предложила.
– Давайте познакомимся как следует, матросик, – говорит. – Зовут меня Александрой Евгеньевной, живу я одна, скучно, может, нам и в самом деле будет вдвоем веселей.
3
Зажил я со старушкой в особняке. Тоска – хуже не выдумаешь. Стоит сентябрь, на улице сухо, солнышко светит по–летнему, дождей нет, а я инструкцию выполняю: сижу у себя на диване, брожу по комнатам, рассматриваю от скуки всякие тарелки да чашки и день ото дня все больше от безделья дурею. Выскочу на минутку на улицу, куплю в киоске газету, и обратно. Время тревожное… Колчака, правда, Красная Армия громит, зато Деникин Харьков занял, к Курску подбирается, в Петрограде о новом выступлении Юденича поговаривают… Сердце от беспокойства замирает, так бы и убежал на фронт!
Пошел получать паек, зашел к Коврову, говорю:
– Нет мочи. Если думаете, что я после ранения еще не поправился, так это глубокое заблуждение.
А он одно:
– Терпи.
Ну, я терплю… На всякий случай, в предвидении зимы, поставил у себя в комнате «буржуйку» – так тогда в Петрограде в шутку самодельные печки окрестили: люди жили в холоде, дров не хватало, это, мол, буржуи привыкли в тепле, с печками жить; связал из проволоки железный каркас, обложил кирпичами, сделал дымоход, словом, хозяйничаю честь честью… У старухи в комнате «буржуйку» тоже исправил, реконструировал, так сказать.
Зажили мы с Александрой Евгеньевной прямо как старосветские помещики. По вечерам я ее селедкой и картошкой угощаю, а она меня пшенной кашей. Чай пьем из самой что ни на есть редкой посуды. Она мне объясняет, рассказывает: севр, сакс… Я тогда, конечно, ни в чем этом не разбирался, но сижу, поддакиваю: посуда, правильно, красивая была. Никаких подозрений у меня в отношении старухи не было. Я тогда твердо решил: просто дали мне еще два месяца для поправки, и старуха только предлог. Да и какие могли быть у меня подозрения? Она тоже все дни дома сидит, никто к ней не ходит, читает книжки, со мной разговоры разговаривает да еще богу молится… Ну опять же подозрительного в этом ничего нет. Откуда она средства к жизни берет, тоже мне было ясно. Даже в те голодные времена в Петрограде водились скупщики всяких ценных вещей – картин, ковров, посуды. Вот старушка моя нет–нет да и продаст какую–нибудь чашку с блюдцем. К ней изредка заходили эти скупщики, и она мне объясняла, что продает не из коллекции, а из предметов, которые у нее в личном пользовании находятся. Хотя, признаться, если бы она даже из коллекции продала какую–нибудь тарелку, я бы на это дело сквозь пальцы посмотрел: чашкой меньше, чашкой больше, а за эти чашки платили пшеном, рисом, горохом…
Зайдет, бывало, скупщик, спрашивает:
– Нет ли старинного севра или сакса у вас?
Ну а старуха понятно что отвечает:
– Если заплатите пшеном или рисом, найдется…
Сколько раз я эти разговоры слышал и вниманье на них совсем перестал обращать.
У меня даже сон от тоски да от безделья испортился. Прежде я, бывало, спал как убитый. А теперь не то. Поужинаю со старухой, напьюсь чаю, лягу, и точно меня какой–то холод сковывает. Сплю беспокойно, сквозь сон какие–то голоса слышатся, шаги, шорохи. Утром просыпаюсь каким–то слабым, неуверенным…
В предвидении зимы занялся я заготовкой дров. Кто знает, думаю, сколько времени еще здесь проживу, а зимой мерзнуть неохота. Уеду – топливо старухе останется, она тоже не кошка, своей шерсти нет. Нашел я неподалеку, в одном из переулков, сад. С улицы не подумаешь, что за домом такой сад может быть. Деревья в нем всякие, кусты, скамейки и, главное, очень подходящий забор.
А вместо сарая дрова мы складывали в подвал под особняком, ход в него из дома шел, прямо из коридора.
– В нем винный погреб раньше помещался, – рассказывала хозяйка.
Бывало, схожу, выломаю две доски, нарублю их на плашки перед крыльцом и снесу в подвал.
Старуха и посоветовала подвал для дров приспособить.
– И под рукой, – говорит, – и не украдут.
Однажды прихожу в сад, а туда по дрова, разумеется, не один я ходил, и вижу: какой–то курносый паренек у забора пыхтит, тоже доски выламывает.
– Помочь? – спрашиваю.
– Отстань, – говорит, – сам справлюсь.
– А как тебя зовут?
– Витька.
– А сколько тебе лет?
– Тринадцать.
– Давай помогу.
– А ну!
Самолюбие не позволяет помощь принять. Рванул мой Витька доску на себя, – доска, правда, затрещала, но парень не удержался, бац на спину, доска его по лбу, на лбу – синяк, губы дрожат, вот–вот заплачет.
Думаю: надо его разозлить, а то заплачет, застыдится, убежит, и конец нашему знакомству.
– А доску эту, – говорю, – я у тебя возьму.
Вскочил мальчишка, ощерился, сразу о синяке забыл.
– А я тебя камнями забью, – говорит.
Поговорили мы с ним… Ничего, сошлись. Выломал я себе три доски, ему две, пошли обратно вместе.
– Ты где живешь? – спрашиваю.
– Здесь, на Фонтанке.
– А отец у тебя чем занимается?
– Отец на Путиловском заводе работает.
– А как же вы сюда, на Фонтанку, попали?
– А нас сюда из подвала переселили…
Вышли мы на Фонтанку.
– А где же ты здесь живешь? – спрашиваю.
– А вон, – говорит, – в большом доме, на втором этаже, там еще на двери вывеска: «Барон фон Мердер».
– Эх ты, барон! – говорю. – Идем ко мне, наколю я тебе твои доски.
Ну поломался он для приличия и согласился.
На другой день мы уже вместе по дрова пошли, потом зазвал я его к себе, и началась наша дружба. Я ему про войну рассказываю, о Красной Армии, о деникинцах, о Колчаке, вместе с ним револьвер свой чищу, целиться его научил, азбуке Морзе выучил, короче говоря: бери парнишку на фронт, он и там без дела не окажется. Виктор тоже в долгу не остался: начал меня арифметике обучать. Придет ко мне вечером уроки готовить, ну и сидим мы с ним вместе, решаем задачки всякие.
Александра Евгеньевна во мне души не чает. После того как я с Виктором подружился и начал с ним задачки решать, она, кажется, совсем убедилась в том, что я нахожусь в отставке и не знаю, как свое время убить.
4
Довелось однажды днем остаться мне в доме одному. Старуха ушла не то карточки какие–то получать, не то платок какой–то понесла на рынок на сахар выменивать. Сижу у себя в комнате и книжку читаю. Слышу – звонок. Пошел к двери, открываю.
Стоит на парадном мужчина. Бородка клинышком, серенькое пальтецо… Ничего особенного.
Взглянул на меня, хмыкнул почему–то и спрашивает: