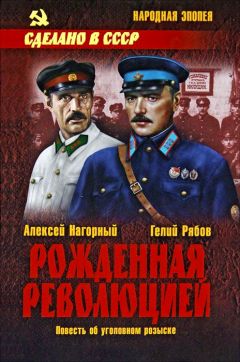Вошел Терпигорев, под мышкой он держал сверток.
— Докладывайте, — приказал Рюн.
Терпигорев неторопливо развернул сверток и тщательно сложил упаковочную бумагу вчетверо, потом сделал шаг в сторону, и Марин увидел три офицерские гимнастерки.
— Это Жабов, — комендант стряхнул гимнастерку. — Расстрелян. Это Гвоздев — тоже расстрелян. Это Якин — туда же…
— Желаете убедиться? — Рюн повернулся к Марину.
— В чем?
— Да вот… в каждой гимнастерке — дырка, кровь.
— Я верю вам на слово, — улыбнулся Марин.
— Свободны, — кивнул Рюн Терпигореву. И тот, четко повернувшись налево кругом, вышел из кабинета. Гимнастерки расстрелянных офицеров остались на столе.
— Как видите, я не шучу, — сказал Рюн и, помедля, добавил: — Владимир Александрович, мы с вами по разную сторону баррикад, но я не напрасно упомянул слово «интеллигент». По какую бы сторону друг от друга ни находились интеллигентные люди, они всегда договорятся. Ведь они говорят на языке Гёте и Гегеля.
— А народ, которым вы руководите, он на каком языке говорит? — спросил Марин.
— На матерном в основном, — улыбнулся Рюн. — Вы шли на связь к Врангелю?
«Он знает о шелковке, — сообразил Марин. — Значит, я ошибся, значит, агент в камере был. Кто? Жабов? Якин? Гвоздев? Сработано тонко. Не знаю, кто из них…»
— Это вопрос или утверждение? — улыбнулся Марин.
— У вас в рукаве и ответ на мой вопрос и подтверждение моего утверждения. Смотрите сюда, — Рюн вышел из–за стола, подошел к дивану и отодвинул портрет. За ним оказалась дверка сейфа, Рюн открыл сейф и, перебрав несколько папок, вернулся к столу. — Вот я беру ручку с пером, макаю перо в чернила и пишу на обложке: «Расстрелять». И подписываю — Рюн. Вопросы есть?
— Что это за папка?
— Ваше «дело».
— А почему вы не поставили сегодняшнее число?
—Блестяще, — обрадовался Рюн. — Мы договоримся, я это сразу понял. Если вы согласитесь па мое предложение, числа вообще не будет, а если нет… Догадываетесь?
— Вы его поставите в тот день, когда меня расстреляют, — сказал Марин.
— Умница, — одобрил Рюн. — Вы должны меня понять. Слушайте, — он вышел из–за стола и снова подошел к дивану. Сел, жестом пригласил Марина сесть напротив, потом продолжал: — Революция номер три, Октябрьская, как ее называют, была совершенно бескровной: пять–шесть убитых с обеих сторон, это же не разговор, но бескровная революция переросла в величайшее сражение: тысячи, сотни тысяч убитых, миллионы изгнанников, гражданская война… В ней нет победителей, нет побежденных. Кто–то должен исчезнуть. Мы считаем — белые, они имеют в виду нас. А вы как думаете?
Марин пожал плечами:
— Вы полагаете, лучше приспособиться к новой России, нежели сгнить за старую?
— А вы как полагаете?
— Хотите сделать меня предателем?
— Демагогия. Да или нет? Минута на размышление.
— Согласие, вырванное таким способом, вряд ли надежно, вам не кажется?
— Нет, не кажется. Вы уже дали ваше согласие, остальное — формальности.
— Я ничего вам не давал, уж простите…
— Разве? — удивился Рюн. — А мне казалось, что, когда интеллигент начинает обсуждать альтернативу подобного рода, он уже все решил… — Рюн сжал губы: — А ведь альтернативы — нет.
Марин долго молчал. Этот далеко не глупый Рюн должен был увериться до конца; он сумел задавить офицера, загнать его в угол…
— Что я должен делать? — словно борясь с собой и не все еще решив окончательно, спросил Марин.
— Мы задержали одну дамочку, — начал Рюн, вставая и прохаживаясь по кабинету, — доказательства ее преступной деятельности налицо, она матерая спекулянтка, и мы можем ее расстрелять в любую секунду, но есть детали, не будем сейчас о них говорить, чтобы они не повлияли на вашу объективность, эти детали приводят меня к мысли, что дело этой дамочки куда как глубже, чем может показаться на первый взгляд. Вот вы и займитесь этим, мой новый и верный друг.
— Интересно, каким же это образом? — не удержался Марин от усмешки.
Рюн почувствовал иронию, но не рассердился:
— Отдел занимает случайное здание, — сказал он серьезно. — Приспособленных камер нет, все вверх дном. Я это говорю к тому, что в образцовой тюрьме я вряд ли сумел бы выполнить задуманное, а здесь сумею — если, конечно, вы мне поможете.
— Подсадите меня к мадам, — догадался Марин.
— Я же говорил, что вы умница, — серьезно сказал Рюн. — Именно так. Размотайте ее любой ценой. Если удастся доказать и доказать серьезно, что она нечто из ряда вон, скажем так, будет хорошо и вам и мне.
— Вы получите орден Красного Знамени, — Марин смотрел Рюну прямо в глаза.
— А вы —жизнь и свободу. — Рюн не отвел взгляда.
— Гарантии?
— Мое честное слово.
Марии молча улыбнулся.
— У вас есть другой выход? — мягко спросил Рюн. — Ее зовут Зинаида Павловна Лохвицкая.
Зотов прикрыл дверь камеры и внимательно посмотрел на Марина.
— Трудно пришлось?
— Узнайте, что произошло с офицерами из моей камеры, — сказал Марин.
— Все расстреляны.
— Нет. Один из них агент Рюна. Уточните кто. Агент жив.
— Сделаю.
— У вас никогда не возникало ощущение, что в отделе работает агент белогвардейской разведки? — спросил Марин.
— Есть факты?
— Я сказал «ощущение», — жестко повторил Марин.
— Не знаю, не думал об этом.
— Подумайте.
— Может, сам Рюн, — предположил Зотов..
— Не–ет, Рюн не работает на Врангеля. Рюн — просто мерзавец, примазавшийся. Мы обязаны добыть доказательства его преступной деятельности, товарищ Зотов.
— Зачем?
— Эти доказательства мы предъявим коллегии ВЧК или трибуналу. Уж как получится. Рюн — опаснейший враг. Чем дольше он останется у руководства, тем хуже. Его надо бы расстрелять, и немедленно! Нужно вскрыть и тщательно проверить сейф Рюна. Сможете вывести меня ночью из камеры?
— Не… знаю. Я просто не уверен, что нужно рисковать головой.
— Прекрасно. Предложите другой выход.
— Хм… Скомандуйте, и я его застрелю. Вот и все.
— Мы не бандиты.
— А он? Между прочим, ЧК — карающий меч диктатуры пролетариата, и нечего разводить антимонии, слюни распускать. Убить гада — и точка.
— Мы все решили, товарищ Зотов, — спокойно сказал Марин. — Я проверю сейф. Сейчас это главное.
— Хорошо, только с небольшой поправкой: сейф буду проверять я. Если застукают — пуля на месте, а ваша жизнь дороже. Идемте, Лохвицкая ждет.
— Где она?
— Через две камеры отсюда.
— Заходите. — Зотов распахнул дверь одной из камер, в конце коридора. — Дамочки сейчас нет, располагайтесь.
— Где она?
— На допросе, у Рюна, — многозначительно посмотрел Зотов. — Я вас все спросить хотел: вы из каких будете, товарищ Марин?
— Я художник, в прошлом дворянин.
— Ну да?
— Да. А что?
— А как же вы против… своих?
— Это сложный вопрос, Зотов. Ты рабочий?
— Деповский. Я воюю за свое.
— Как ты думаешь, для чего революция?
— Для равенства и братства, чтобы всем было хорошо.
— Верно. Ты это понял по рождению, а я — по убеждению. Понимаешь? Однажды любой человек остается один на один с собственной совестью, и тогда он делит мир не на своих и… чужих, а на тех, кто за справедливость, и тех, кто против нее…
— Я подумаю. — Зотов ушел.
Марин лег на нары и закрыл глаза. Третий год содрогается Россия в конвульсиях революционного катаклизма, идет не переставая гражданская война, гибнут люди, страна отброшена назад на десятки лет. Что по сравнению с этим кровавая Франция девяносто третьего года, уставленная гильотинами? Год–другой повоюем, невесты будут выть до старости — не останется женихов. Он задремал, усталость и нервное переутомление брали свое, и как ни старался он дождаться возвращения хозяйки камеры, не сумел. Внезапный и ошеломляющий, беспощадно навалился сон. Длинной–длинной лестницей поднимался он на вершину Монмартра, к ослепительной белой базилике Сакрекёр…
— Не помешала? — услышал он низкий, приятного тембра голос и открыл глаза.
У нар стояла женщина, невысокого роста, большеглазая, с гладко причесанными волосами, собранными на затылке в тугой узел. Красива она была — не яркой и не броской красотой, но той, истинно русской, печальной какой–то, от которой сразу перехватывает дыхание. А может быть, это только показалось ему? Или просто подумалось, потому что облик ее так щемяще странно совпадал с тем давним, выстраданным, бередящим душу, но нереальным, увы, совсем нереальным… А теперь она вдруг возникла из небытия, из сна, она стояла живая, с едва заметным румянцем на щеках и бровями вразлет и мягкой полуулыбкой, вдруг выпорхнувшей откуда–то из глубины темно–синих глаз. Марин хотел что–то сказать, но не нашелся и только торопливо и неловко поднялся с нар, застегивая воротничок рубашки.


![Алексей Нагорный - Повесть об уголовном розыске [Рожденная революцией]](https://cdn.my-library.info/books/193625/193625.jpg)