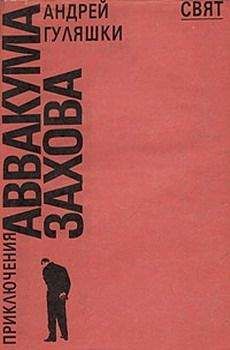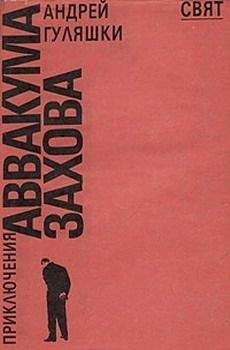— У Балабаницы? — лукаво взглянул на него Матей Калудиев и подмигнул.
— Эх ты! — нахмурился Ичеренский. Он отщипнул кусочек мякиша и принялся сминать его пальцами.
Бай Гроздан посмотрел в его сторону, и на лице его вдруг появилось выражение, какое бывает у человека, понявшего, сколь непростительную ошибку он допустил. Он хотел было что-то сказать и открыл уже рот, но потом опустил голову и не издал ни звука.
Матей Калудиев присвистнул и повернулся к окну.
— Что, эту удобную комнату вы уже кому-нибудь пообещали? — спросил Аввакум.
Мы переглянулись. На столь лобовой вопрос определенно должен был ответить Ичеренский. В конце концов, мы уже уполномочили его быть старшиной нашего стола.
Так и получилось.
Ичеренский откашлялся и взял слово.
— Тут дело несколько особое, — сказал он. — Бай Гроздан упомянул при комнату Балабаницы. Комната эта действительно имеет ряд удобств, это верно.
— Да и сама Балабаница кое-чего стоит, — лукаво подмигнул Матей Калудиев.
— Тут шутки неуместны! — одернул его Ичеренский. Он немного помолчал. — Но есть и одно неудобство: неизвестно, что может статься с человеком, который ее снимал!
— Будьте спокойны, — сказал Аввакум. — Этот человек едва ли скоро выйдет из тюрьмы.
Мы все уставились на Аввакума. Лицо бай Гроздана утратило жизнерадостность, а по губам Кузмана Христофорова скользнула какая-то злорадная и в то же время страдальческая усмешка.
Боян Ичеренский шумно высморкался в платок, хотя все мы знали, что никакого насморка у него нет.
— Его непременно повесят, — с веселой улыбкой повторил Аввакум. Он закурил сигарету и удобно устроился на лавке. — Секретарь окружною совета рассказал мне об этом учителе. Методий или как его…
— Методий Парашкевов. — буркнул я.
— Именно… Человек во всем сознался от начала до конца.
— Странно, — сказал Ичеренский.
Бай Гроздан тяжко вздохнул. Как будто не Парашкевова должны повесить, а его самого.
— И подобный субъект сидел тут, за этим столом, среди нас! — вдруг воскликнул капитан Калудиев и, стукнув кулаком по столу, схватился за кобуру.
От удара кулака, которым он мог свалить теленка, рюмка Кузмана Хрисгофорова подскочила, и вино, пролившись на стол, полилось ему на колени. Однако он даже не шелохнулся.
— Кто не умеет смеяться и не любит говорить о женщинах, тот не заслуживает доверия, — глубокомысленно заключил капитан и угрожающе затряс головой.
Мне везет! — расхохотался Аввакум. — Как видите, все складывается в мою пользу. Год назад, когда мы были на раскопках под Никополисом, одна старая цыганка гадала мне на бобах и сказала, что я родился под счастливой звездой. Так прямо и сказала: «Ты, сынок, родился под счастливой звездой. Но эта звезда восходит на небе, когда созревает виноград и наступает пора убирать кукурузу. В эту пору, за что ни возьмешься, любое дело будет спориться». Вот что мне нагадала цыганка среди руин под Никополисом, и я полагаю, она не ошиблась. Иногда эти цыганки знают про тебя все. Судите сами: какая сейчас пора? Ранняя осень. Созрел виноград, начинается уборка кукурузы. То есть моя звезда уже засияла. Значит, у меня будет удобная квартира и приятная хозяйка. А это, согласитесь сами — вы ведь тоже люди науки, — имеет в научно-исследовательской работе немалое значение. Капитан Калудиев неожиданно заявил:
— А мы с тобой, братец, будем хорошими друзьями.
Он налил в рюмку Аввакуму, налил в свою и, потянувшись к археологу через весь стол, звучно поцеловал в левую щеку.
Аввакум в свою очередь сделал то же самое. Они чокнулись и выпили до дна.
— И все же, — сказал Ичеренский, к которому снова вернулось хорошее настроение, — я бы тебе не советовал устраиваться в этом доме. Подумай только: разве приятно жить в комнате повешенного?
— Но, друзья мои, — засмеялся Аввакум. — Неужели я похож на человека, который боится привидений?
Мы молча согласились, что на такого человека он не похож. Тут Ичеренский поднялся со своего места, шумно зевнул и медленно направился к двери.
— Ты, приятель, забыл заплатить, — бросил ему вслед Аввакум. Я вздрогнул. Который уже раз в этот день! Разве можно так дерзко вести себя с заслуженным человеком, ученым, который открыл столько месторождений меди! Хотя я его не любил в душе, но относился к нему с уважением и — сам не знаю почему — боялся его, как в свое время боялся учителя математики.
Но Ичеренский только улыбнулся.
— Не беспокойся, мой мальчик! — сказал он. — Сегодня среда, а по средам я всегда плачу за все, что поедается за этим столом, в том числе и за то, что съедят гости. Тебя это устраивает?
— Очень, — сказал Аввакум. — Я вполне удовлетворен. И торжественно клянусь перед всей честной компанией, что отныне каждую среду я буду твоим гостем.
— Благодарю, — кивнул Ичеренский. — Разумеется, мне будет очень приятно. Я люблю учтивых людей.
Не успел он переступить порог, как Аввакум кинулся за ним.
— Да покажите мне, где дом этого злодея и его прелестной хозяйки! — смеясь, попросил он.
По лицу Ичеренского как будто пробежала тень. Он остановился, помолчал мгновение, словно раздумывая, стоит ли отчитать нахала и какими словами. Но тут же, сменив гнев на милость, сказал спокойно и вполне любезно:
— Дом злодея? Но он отсюда виден, мне и провожать тебя нет нужды. — Он показал через окно: — Вон смотри, третий слева, напротив него кирпичная ограда.
— Ага, — сказал Аввакум. — Вижу.
— Я провожу, — вздохнул бай Гроздан. — Мне надо самому зайти с тобой. Балабаница не примет тебя без представителя совета — такой у нас порядок. — Взмахом руки он сдвинул набок свою барашковую шапку. — Что ж, пойдем!
Аввакум уже стоял на пороге.
Вот какое ужасное впечатление осталось у меня от первой встречи с этим человеком. Разумеется, сейчас у меня о нем совсем другое мнение. И отношение к нему другое. Но если кто-нибудь спросит, какое же оно, я, прежде чем ответить, подумаю как следует. И тем не менее я не уверен, что ответ мой будет точен, что я не ошибусь. Однако две вещи мне совершенно ясны. Во-первых, я им восхищаюсь. Но это восхищение несколько необычно. Я могу восхищаться, например, ярким цветком, лесной поляной. Но когда я думаю об этом человеке, мне кажется, что перед моими глазами встает панорама каких-то суровых гор с головокружительными стремнинами под ногами и с еще более головокружительными вершинами. Меня оглушает грохот водопада, перед глазами над вспененной пучиной сверкают обломки радуги; высоко в небе неподвижно парит орел. Подобная картина тоже радует меня, но ей я радуюсь несколько иначе — не так, как яркому цветку или маленькой полянке, затерявшейся в тиши зеленой лесной чащи.
Во-вторых, когда я думаю об этом человеке, я как будто забываю о своем возрасте, о своем общественном положении и о том, что я ветеринарный врач большого участка. Я чувствую то же, что чувствовал бы тщедушный, близорукий мальчишка, стоя рядом с могучим Спартаком. Это очень неприятно, потому что мне уже тридцать лет, рост метр семьдесят три и рекордные надои Рашки даже при ее огромном вымени — как-никак моя заслуга. Это чувство, как я уже сказал, не из приятных, но избавиться от него у меня недостает сил. Разумеется, если все наши коровы станут такими же высокоудойными, как Рашка, и если доктор Начева, встречая меня, перестанет смеяться, тогда, быть может, я не буду в его присутствии чувствовать то же, что чувствует тщедушный, близорукий мальчишка, стоя рядом со Спартаком. Во всяком случае, так мне кажется.
Когда я говорю об Аввакуме, мне, естественно, хочется быть объективным, но из-за уже перечисленных обстоятельств, да и по другим причинам мне это не удается. Лучше всего, если я и впредь буду выступать в роли беспристрастного летописца.
Я должен сделать лишь одно замечание. Замечание это пустячное и не имеет прямого отношения к рассказу. А именно: тому, что говорит обо мне Аввакум, не следует верить. Не следует потому, что у него вообще ошибочное представление о моем характере. Так, например, он считает, что я романтик, даже поэт, застенчивый мечтатель, но во всем этом нет ни грамма правды. Я ветеринар крупного участка, и на его территории, как я уже говорил, нет ни сапа, ни куриной чумы. Да и корова Рашка свидетель, хоть и бессловесный, что я свое дело знаю. Ну, а раз так, то о какой поэзии, о какой романтике может идти речь! А его утверждение, что я застенчивый мечтатель, совершенно беспочвенно. Когда доктор Начева стала водить дружбу с капитаном, я тут же прекратил прогулки но дороге в Луки. А ведь на такой решительный шаг не способен ни один застенчивый мечтатель. Когда же капитан убрался восвояси, я опять возобновил прогулки как ни в чем не бывало. О какой застенчивости может тут идти речь?
Совершенно очевидно, что у Аввакума ошибочное представление о моем характере. Но я на него не сержусь — кто на свете не ошибается? Даже гениальный Шерлок Холмс и тот ошибался.