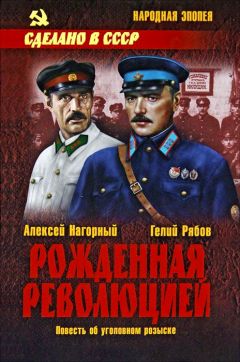— Простите, сударыня. Позвольте рекомендоваться. — Он назвал себя и осторожно дотронулся губами до ее руки. Вдруг возник неуловимый аромат, наверное, это был давний запах каких–то стойких духов, а ему показалось на мгновение, что нет ни камеры, ни решетки в маленьком окошке под потолком. Он с трудом приходил в себя, с трудом осмысливал происходящее и в ужасе думал о том, что ему не годится поддаваться обстоятельствам.
— Узнав, что меня помещают к даме, я протестовал, — сказал он, — мне разъяснили, что Советской власти всего два года, новых, комфортабельных тюрем она еще не успела выстроить, а в связи с войной приходится использовать, что есть под рукой.
— Увы, — она улыбнулась. — Меня зовут Зинаида Павловна. Я полагаю, мы должны с пониманием отнестись к проблемам большевиков. Интересно, у нас тоже будут трудности в аналогичных случаях?
Марин рассмеялся.
— Россия одна, и трудности похожи. Какими судьбами сюда?
— Хотела наладить в Харькове цветочную торговлю, у меня в Курске магазин. Революция, война… Решила перебраться в более торговые края, а ЧК пришила мне спекуляцию. Ну да мы, курские мещане, народ крепкий, особливо бабы, — глаза ее смеялись. Она словно подзадоривала Марина: ну–ка, давай в атаку, вперед, ты же видишь и слышишь, я мелю чепуху и жду достойного ответа.
— Знаете, — сказал Марин с иронией, — у… курских мещан фамилии серые, унылые, как булыжные мостовые: Винниковы, Дежниковы, а Лохвицкая… От этой фамилии веет ароматом иных миров. Я ведь бывал в Курске…
— Это забавно… — сказала она без улыбки. — Но это, наверное, не все? Продолжайте, пожалуйста…
— Вы сказали «у нас тоже будут трудности». У кого «у нас»?
— Ну, это понятно… — протянула она. — Мы сидим в узилище большевиков, стало быть, «у нас» — у белых. Я хотя и не дворянка, но белой идее очень сочувствую.
— Не дворянка… — он мягко улыбнулся. — И не мещанка. Ваши вульгаризмы «пришила», «особливо», «баба» никого не введут в заблуждение.
Она тоже улыбнулась:
— Вы забыли: я еще употребила такие термины, как «проблема», «аналогия». Вспомнили?
— Я думаю, что тот, кто подготовил вам легенду «курская мещанка», не отличался профессиональной фантазией и подготовкой, — вздохнул Марин.
— А вы, значит, подполковник и служили в пехоте?
— Я уже докладывал вам.
— А слово «легенда», это что же — из боевого устава пехоты? То–то, сударь… И впредь не задирайте носа. А вообще–то знаете что? — она смотрела на него очень дружелюбно. — Я думаю, что мы оба в чем–то ошиблись, в чем–то проговорились, в чем–то были предельно откровенны, не так ли? В итоге мы на исходных позициях, если я правильно понимаю?
— Ваш ход, сударыня, — он поклонился.
Она вдруг посуровела, глаза потухли, лоб прорезала глубокая морщина. Она сразу постарела лет на десять.
— Невинный разговор, милая игра словами… Здесь, конечно, не камера, а салон и здесь никого не убивают. И нас ждет экипаж и пара серых в яблоках коней…
— Давайте сядем и уедем, — серьезно сказал Марин.
— У вас есть часы?
— Отобрали при аресте, — он подтянулся на прутьях решетки и заглянул в окно. — Утро, я думаю, а что? — Он спрыгнул вниз.
Она опустилась на колени:
— Сейчас казнят наших товарищей… Молитесь вместе со мной. Упокой, Христе боже, души раб твоих, — негромко начала она читать заупокойную молитву.
— Идеже несть болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь вечная… — подхватил Марин. «Казнят… — думал он. — Но ведь Рюн уже показал мне гимнастерки расстрелянных? Значит, он разыграл спектакль? Вывод однозначен: ему крайне нужно, чтобы я установил контакт с этой женщиной, и здесь наши желания совпадают. Это нужно и мне».
Они рано начали читать. Грузовик с приговоренными еще только миновал пролом в ограде старинного кладбища на окраине города и въехал в неглубокий овраг, по склонам которого торопливо взбирались покосившиеся кресты. Спрыгнули конвойные и пятеро приговоренных офицеров, среди них Жабов и Гвоздев. Якина здесь не было. У кирпичной стены чернела куча свежевырытой земли и глубокая яма. Офицеры выстроились на краю. Жабов сказал, обращаясь к конвойным:
— Потом хоть притопчите, а то собаки растащат.
— Тебе–то не все равно? — хмуро посмотрел один из конвойных.
— Не все равно, — вмешался кто–то из офицеров. — Наши придут, памятник поставят.
— Не поставят, — улыбнулся красноармеец. — Не найдут.
Гвоздев запрокинул голову и смотрел в небо. Там, высоко–высоко, почти под облаками, купался в солнечных лучах не то жаворонок, не то еще какая–то маленькая пичуга.
— Вот и умираем, — буднично сказал Жабов. — А, господа?
Конвойные, спеша, доставали из кузова грузовика лопаты.
— Торопись, — покрикивал старший, — светает, успеть надо…
— Внимание! — старший развернул бумагу. — Зачитываю приговор.
— Не трудитесь, — махнул рукой Жабов. — Все ясно. Готовсь — и пли…
— Есть форма, ее надо соблюсти, — возразил старший.
— Ладно, — примирительно сказал Жабов. — Я тебе, мил человек, обещаю: если когда–нибудь поменяемся местами, формальностями мучить не стану. Пулю в лоб — и баста!
— Гото–овсь!
— Ну вы–то хоть коммунистов в Горелой пади побили, — нервно сказал Гвоздев, — а я? Меня–то за что? Эй, ты, прочти, за что прапорщика Гвоздева?
— Сейчас, — старший снова развернул приговор, пробежал глазами. — Сказано: «За зверство».
— Вранье! — заорал Гвоздев. — Везите меня назад. Я протестую!
— Перестаньте, прапорщик, — брезгливо поморщился Жабов. — Вы — офицер, вы подняли против них оружие, умрите достойно, черт вас возьми!
Караульные выстроились на другой стороне рва в длинную и редкую цепочку.
— Вы помните свой выпускной бал, ротмистр? — нервно зачастил Гвоздев, — У нас он состоялся в декабре 16–го, перед самой революцией. Я ведь Константиновское окончил, ускоренный военный выпуск. Сколько было народу, мы пригласили гимназисток из соседней женской гимназии, они явились в бальных…
Нестройно ударил залп, офицеров резко швырнула в ров невероятная сила пулевого удара. Вот только что стояли люди, а вот словно их никогда и не было… Начальник конвоя подошел к краю, посмотрел. Могилу забросали землей и заровняли. Сверху положили заранее приготовленный дерн.
В общем, все странно совпало: сначала Зинаида Павловна и Марин прочитали заупокойную молитву, а потом умерли те, за кого они молились.
Она внимательно изучила его шелковку и вернула. Спросила задумчиво:
— Как там Париж? Набережные? Авеню Елисейских полей?
— Я люблю квартал Ля–Маре, — сказал Марин. — Время словно обтекает его. Королевская площадь… Карнавалы, дворцы; отели и руины — город мертвых.
— Там спокойно, — согласилась она. — Только не мертво. Нет! Знаете, прошлое не умирает. В конце концов, мы, нынешние, ищем ответ на те же вопросы, что и они искали тысячу лет назад, и решаем те же загадки… Что сближает людей? Только дух. Время безвластно над ним. Владимир Александрович, расскажите о себе…
— Вас интересует биография? Извольте. Я учился в Академии художеств, в Петербурге. Помните, там два сфинкса и ступеньки, плавно сбегающие к воде… А на той стороне сенат, Исакий, дом графини Лаваль… Простите, я, наверное, не о том… Вас ведь интересуют цифры, даты, названия — то, что легко можно сопоставить, проверить. — Он помрачнел, — Все ушло, все умчалось в невозвратную даль: тройки с бубенцами, соколовский хор, выставки союза русских художников… Ничего больше не будет. Никогда…
— Откуда вы знаете, что я — Лохвицкая? — вдруг спросила она. — Я вам свою фамилию не называла.
Он опустил глаза, чтобы скрыть волнение. Промах, какой нелепый, глупый промах… А она–то… Ничего не сказала, вроде бы — пропустила мимо ушей. Четко и очень профессионально отвлекла, и вот — удар. Как это говорят: «Лучший вид защиты — нападение»?
— Я назвал вашу фамилию в присутствии трех лиц: Жабова, Якина, Гвоздева. Кто из них вас уведомил? И как?
Она покачала головой:
— Вы интересовались мною. Зачем? И кто назвал мою фамилию вам, Владимир Александрович? Поймите: я могу позволить себе роскошь открытой игры. А вы… Если мы не договоримся, вы не доживете до утра.
В первом часу ночи Зотов толкнул похрапывающего на стуле помощника и сказал:
— Пойду проверю камеры арестованных и служебные помещения. Будь начеку.
— Будь спокоен, — зевнул помощник. — Рюн нагрянет, что сказать?
— Так и скажи: «Ушел с обходом». Отлучаться не смей.
До дверей кабинета Рюна Зотов добрался без приключений. Был он нервен, напряжен, оглядывался на каждый шорох и замирал у стены при каждом скрипе. Он не первый день служил в ЧК, но ведь не каждый день приходится дежурному особого отдела тайком вламываться в кабинет своего начальника. Зотов отлично понимал: если поймают, вызовут Рюна — и через 10 минут он, Зотов, станет трупом.


![Алексей Нагорный - Повесть об уголовном розыске [Рожденная революцией]](https://cdn.my-library.info/books/193625/193625.jpg)