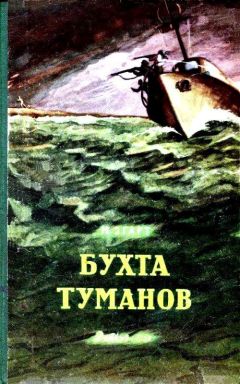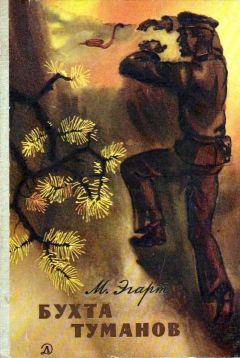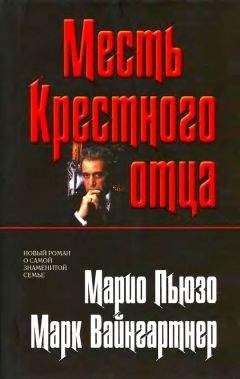— Мое… не отдам… мое! — бормотал Илья задыхаясь.
И чем больше он метался, тем быстрее погружался в песчаную трясину. Последним усилием он сорвал наконец мешочек и поднял свое сокровище высоко над головой:
— Не отдам… мое!
Когда моряки пробрались кружным путем к противоположному краю песчаной косы, они никого не увидели. Синицын долго разглядывал в бинокль длинную, освещенную теперь солнцем полосу песка, на которой затерялся след человека. Он хотел уже опустить бинокль, опасаясь, не удалось ли беглецу уйти, как вдруг заметил вдали какой-то предмет, едва видный на желтой волнистой поверхности песков. То была рука. Несколько минут рука торчала над зыбучей пучиной, потом исчезла.
А в это время за тремя скалами, похожими на каменные кулисы, за почернелой, задымленной, но уцелевшей от пожара фанзой шла другая погоня.
Катер прижимал к берегу лодку под заплатанным парусом. Парус был для отвода глаз: на лодке имелся отличный мотор. Она ловко лавировала, пытаясь вырваться в открытое море, и, настигаемая, кидалась стремительно и внезапно в разные стороны, как щука, попавшая в вершу. Когда стало ясно, что ей не уйти, лодка повернула к берегу и на полном ходу врезалась в песок. Из нее выскочил человек в коричневой кофте и побежал. По нему ударили с катера, но волны подбрасывали катер — и попасть в цель было трудно.
Камыши вдоль устья Шатухи горели бледным в свете солнца огнем. А выше по течению, насколько хватал глаз, стлался дым. Там горела тайга.
Катер причалил одной минутой позже. Но человек в коричневой кофте был уже возле кустов, которые еще не горели, но готовы были заняться. Очевидно, он хотел пробиться сквозь них к ближней протоке, переправиться через нее там, где пожар уже догорал, и уйти к сопкам.
— Ну, тут мы тебя пометим! — сказал низкий голос. Голос принадлежал капитану Пильчевскому. Он понимал,
что все сейчас решалось меткостью и быстротой. И с быстротой, удивительной для его возраста, выскочил из катера, упал на прибрежный песок и вскинул к плечу винтовку, взятую у матроса.
Человек в кофте покачнулся, споткнулся, но устоял и, припадая на одну ногу, скрылся в окутанных дымом кустах.
— Эх, мазила! — выругал самого себя Пильчевский и приказал матросам рассыпаться цепью.
Тут появился Тимчук. Сообразив, что лодке не уйти и что Синицын обойдется без него, он устремился к берегу, но опоздал. Теперь он бежал к кустам и, прежде чем его успели остановить, нырнул в облако дыма.
С опаленным лицом, не выпуская из рук винтовки, он выскочил сквозь кусты к протоке и только хотел прыгнуть в воду, когда увидел беглеца. Тот пересекал вплавь протоку, действуя одной рукой. Пограничник повел мушкой на цель спокойно, как на учении, и выстрелил.
Человек в воде забился, нырнул, вынырнул и последним усилием дотянулся до берега. Здесь объятые огнем камыши накрыли его. Но он был еще жив и попытался подняться. На мгновение вспыхнули загоревшиеся на нем волосы и осветили темное, искаженное лицо.
Тимчук подождал немного. Но человек лежал неподвижно.
А спустя несколько часов лейтенант Синицын, оставшийся вместе с матросами тушить пожар, заметил нечто, похожее издали на обгорелый пень или куст. Толстый слой золы и пепла покрывал оголенные берега, где еще вчера шумел густой камыш.
Шагая по остывающей, кое-где курящейся дымками золе, Синицын приблизился и увидел, что ошибся, — перед ним были скрюченные останки человека. Широкий прямой нож, омытый речной водой, валялся рядом. По этому ножу, который он видел однажды, лейтенант узнал Пак-Якова.
Так погиб Пак-Яков, он же Ху Чи, он же Набумаса Рокура — офицер разведывательного отдела Квантунской армии, как стало известно позже.
Через несколько дней два матроса — Гаврюшин и Майборода — из отряда, оставленного на Песчаном Броде для несения дозорной службы (здесь намечалось строительство новой батареи), купаясь, заплыли к песчаной косе и легли на берегу отдохнуть. День был ясный, солнечный. Приятели, знавшие, что где-то здесь исчез в зыбунах человек с рыжей бородой, с любопытством оглядывали безобидные с виду пески, весело блестевшие под солнцем.
Вдруг Гаврюшин, обладавший острым зрением, заметил неподалеку темный предмет. Он осторожно пополз, следя за тем, не поддается ли под его тяжестью песок, дотянулся концами пальцев до предмета, который оказался мешочком.
Гаврюшин вернулся и вдвоем с Майбородой принялся рассматривать находку. В холщовом мешочке, похожем на самодельный кисет, находились желтые, тускло блестевшие зерна, такие тяжелые, что Майборода удивленно покачал головой. Он никогда не видел натурального золота.
Гаврюшин, нахмурясь, разглядывал находку.
— Дурак ты, дурак! — сказал он, неизвестно к кому обращаясь. — Дурак и продавшаяся душа!
Это было единственное надгробное слово, сказанное над могилой Ильи Дергачева.
Бухту, где когда-то выбросило двух юных робинзонов, теперь не узнать.
Там, где чайки-хохотуньи и жадные орланы кружили над водой, высматривая добычу, где часовой одиноко шагал по дикому пустынному берегу, стоят у пирсов торпедные катера. Скрипучая землечерпалка углубляет дно у северного входа в бухту. Ремонтные мастерские, склады, службы тянутся по обе стороны одетого в камень ручья. Падь между сопок, где прежде качалась саженная полынь и били из-под земли обильные воды, пересечена дорогами, обсажена деревьями, воды спущены в водостоки, укрепленные камнем и дерном. Двумя рядами идут аккуратно выбеленные домики под черепицей и шифером. Перед штабом разбит цветник.
И только туманы, над которыми еще не властен человек, по-прежнему ежедневно клубятся над бухтой, то сгущаясь в облака, то расходясь, то снова растекаясь белой рекой. Ведь недаром это Бухта Туманов!
Но даже самый сильный туман не закрывает вершины сопки, поднимающейся над бухтой. Скала на ней, похожая на человеческую голову, видна отовсюду. Теперь это место называется «Сопка Никуленко». Здесь расположен наблюдательный пост.
А сопки, кудрявые зеленые волны, идущие со всех сторон к Тихому океану, — они уже не так пустынны и дики, как раньше. Поселки рыбаков, охотников, колхозы новоселов возникают то здесь, то там на их черноземных, расчищенных склонах. Дороги и тропы пересекают прежде девственную тайгу, углубляясь все дальше. Пройдут годы — и весь этот обширный, богатый и прекрасный край будет полностью заселен и освоен.
Юрий Михайлович Синицын — теперь старший лейтенант береговой обороны. Это плотный бронзоволицый моряк с густым, смуглым румянцем и черными веселыми глазами. Он женат. Нетрудно догадаться, на ком. Его жена недавно кончила медицинский институт и назначена врачом в госпиталь, расположенный в бухте. У Синицыных уже есть сынишка, трехлетний бутуз, которого балует дед Макар Иванович, часто навещающий зятя и дочь. Мать Синицына по-прежнему живет в Москве и после войны возобновила свои научные исследования осеннего энцефалита. Дважды она приезжала с экспедицией на Дальний Восток и гостила у сына. Он не теряет надежды забрать мать к себе.
Когда началась война с Японией, Синицын добился перевода на действующий флот и участвовал в операциях на Южном Сахалине. Теперь он вернулся в родную бухту и командует батареей, расположенной возле Песчаного Брода. Сюда ведет дорога, проложенная вдоль старой звериной тропы.
У берега Шатухи дорога делает ответвление в глубь тайги, к прииску. Богатое месторождение было открыто вскоре после того, как матрос Гаврюшин нашел мешочек с золотым песком, и прииск работает второй год. А Гаврюшин — теперь старшина Гаврюшин — остался на сверхсрочную вместе со своим дружком Майбородой. Оба служат под командой Синицына.
Полковник Пильчевский переведен в штаб Тихоокеанского флота. По роду службы ему приходится бывать в бухте. Он постарел, прихварывает. Пора бы на покой, но он и слышать об этом не хочет, как и Федор Антонович, дядя Синицына, которому недавно стукнуло шестьдесят, а он только что перестал ходить в дальние рейсы, работает во Владивостокском порту. И капитан Бурков, раненный в бою с японцами, едва поправившись, вернулся сюда. И Тимчук, съездивший к себе на Полтавщину и женившийся там, возвратился вместе с молодой женой на погранзаставу…
Есть какая-то притягательная сила в этих местах. Редкий человек, побывавший здесь, не испытал на себе ее влияния. В чем эта сила: в красоте природы, в своеобразии условий жизни или, быть может, в чувстве Родины, которое здесь, на далеких рубежах, особенно ощутимо?
Когда Синицын бывает в бухте, он часто поднимается на сопку, носящую имя его друга. Он любит постоять на ее открытой всем ветрам вершине. О чем он думает: о погибшем друге, о беспечальной юности или о великой войне, которая никогда не забудется?.. А возможно, он слушает могучий и неумолчный зов океана, чей голос впервые прозвучал в его сердце на этих берегах.