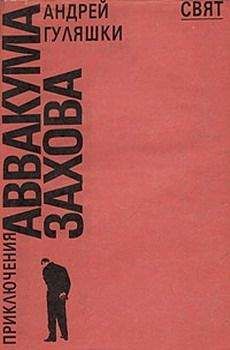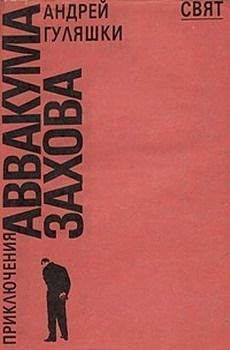Я открыл дверь и вышел на балкон. Не то день, не то ночь. В ветвях невидимой черешни — собственно, не столько невидимой, сколько прозрачной, — в ветвях черешни-призрака печально и тихо шелестел дождь. Постояв немного, я вернулся в кабинет, затворил широкую стеклянную дверь и плотно задернул шторы. Меня всего трясло от холода. Приходилось стискивать челюсти, чтобы не лязгать зубами, или, как говорили прежде, когда у нас бывали настоящие морозные зимы, чтобы не выбивать зубами дробь. Решив последовать совету Аввакума, я вошел в спальню, снял пиджак, стащил с трудом ботинки и бросился полуодетым на постель. Свернулся калачиком, натянул на голову одеяло и тотчас же потонул в водовороте невыносимого шума и разбитой на мелкие кусочки темноты. Меня затошнило, я хотел вскочить с постели, но какая-то огромная невидимая нога прижала мое тело к матрацу — нога, обутая в подкованный сапог, а может быть, это было копыто, тоже огромное и подкованное. Потом сон отнял у меня дыхание — так мне показалось, — и я словно погрузился в небытие.
Очнулся я часа через два, в доме что-то страшно громыхало. Я вздрогнул и, гонимый безумным страхом, выбежал из спальни в кабинет. Тут стоял швейцар. Он только что бросил в камин охапку сухих дров и, потирая руки, с любопытством уставился на меня. Мне не удалось разобрать, глазел он на меня снисходительно или же с сожалением, потому что кабинет освещала одна только настольная лампа, которая отбрасывала свет ему в ноги, а лицо оставалось в загадочной тени. Мне казалось все же, что он снисходительно поглядывает на меня, и это было мне по душе. Я никогда не любил встречаться с глазами, смотрящими на меня с сожалением. Солдата можно ненавидеть, преследовать, даже можно иногда ему снисходительно улыбаться, но выказывать ему сожаление — никогда! Это мой принцип, и я твердо придерживаюсь его.
Я в свою очередь тоже улыбнулся снисходительно, и тогда швейцар, еще крепкий старик, пробормотал: «С добрым утром!» — и осведомился, не разбудил ли он меня «случайно». На что я любезно ответил: «Напротив, напротив!» Он остался доволен моим ответом и, наверное, поэтому проявил щедрость, предложив мне не жалеть дров. В такую собачью погоду, мол, не стоит жалеть дров. И добавил, что без пищи еще можно так-сяк перебиться, а вот без огня — никак.
Когда швейцар ушел, я не преминул воспользоваться его советом, и в камине запылал яркий огонь. Я поставил на раскаленные угли чайник, он быстро зашумел, и сразу стало уютно. Потом раздвинул шторы на балконной двери, и сквозь ее стекла в комнату заглянул день — такой же сырой и серый, что и вчера. Но в доме было хорошо, и, чтобы не думать об ужасе всего случившегося, о смерти Марины, я принялся рассматривать кабинет. Давненько не доводилось мне здесь сиживать. Новых вещей, правда, не было — ведь Аввакум вернулся совсем недавно. Удвоилось лишь число безделушек на полках — появились новые старинные вазочки, фигурки из потемневшей бронзы, древние черепки. Все остальное было знакомо мне с давних пор.
Просто невозможно было представить себе, чем кончится злосчастная история со склянкой, но предчувствие, что вместе с нею завершится наша с Аввакумом «совместная» деятельность, не покидало меня. Поэтому мне захотелось, прежде чем пробьет час нашей разлуки, снова припомнить некоторые эпизоды, связанные с ним, с его образом жизни. Может быть, я уже заводил разговор об этом, по другому поводу, правда, но обыкновенно при прощании либо забываешь сказать «самое важное», либо, сам того не замечая, говоришь о нем дважды, трижды. При расставании «весы» памяти работают неточно — уж так повелось, вероятно, с тех стародавних времен, когда зародилась дружба.
В доме на улице Настурции Аввакум поселился за шесть лет до своего отъезда в Италию. Тогда, шестнадцать лет назад, северная сторона улицы еще не была застроена новыми домами, здесь зеленели лужайки, вплотную подступал сосновый лес. Тихим, уединенным, безлюдным, особенно в плохую погоду, был этот квартал. Уличные фонари — старые, тусклые — стояли не часто, и поэтому ночи тут были темные, небо открывалось высокое, звездное. Обожаю звездное небо! В юношеские годы даже увлекался астрономией. Потому и полюбил я этот квартал. Над ним в хорошую погоду всегда ярко сияют звезды. Это просто счастье, что Аввакум перебрался сюда! Когда я приходил к нему в гости, мы усаживались с ним на балконе или во дворе под пышной кроной высокой черешни и, глядя на это дивное небо, я так увлекался, рассказывал о звездных мирах, что, случалось, просто заговаривал Аввакума.
С домом на улице Настурции связан самый славный период «искательской» деятельности Аввакума. Этот дом полон воспоминаний о кинорежиссере Асене Кантарджиеве, о Прекрасной фее, которая, исполняя заглавную роль в балете «Спящая красавица», покорила сердца столичных жителей, о преподавательнице музыки Евгении Марковой. Он перенаселен тенями многих людей, насыщен сверх меры сильными переживаниями, связанными с исходом тех запутанных историй — порой трагическим, порой трагикомическим, как это было в истории с Прекрасной феей…
В рабочей комнате Аввакума полно книг — они громоздятся от пола до потолка — и старинных терракот. Она заставлена шкафами, где хранятся старинные рукописи, фотографии, архивы уже раскрытых им и завершенных загадочных историй; шкафами, в которых лежат кассеты с кинодокументами, образцы ядов, пули; стеллажами, где в строгом порядке расположены коллекции графики, гравюр, анатомических разрезов. И прочее, и прочее. Тут есть еще старое кожаное кресло, камин, столик для проекционного аппарата. А вон там лежат альбомы со снимками. Интересно полистать… О, вот и сам Аввакум — тридцатичетырехлетний, в расцвете сил! Помню, таким он был, когда занимался «Спящей красавицей», и в самом финале этой истории на один только вечер стал любовником Прекрасной феи и тем самым утратил одну из своих «утешительных» иллюзий. Вот его фотография, сделанная накануне того дня, когда он улетал из Сицилии. На снимке почти незаметна седина на его висках. Десять лет назад они только начали слегка седеть. Десять лет назад две скептические складки в углах его рта лишь намечались. Теперь они пролегли резко очерченными бороздами.
В остальном же сегодняшний Аввакум и «тот» похожи — не отличаются ни своим внешним, ни духовным обликом. Вот почему я повторяю сейчас то же, что когда-то давно говорил о нем. Тогда сказанное мною звучало странно, но в данный момент это настолько истинно и реально, что было бы неразумно отрекаться от него. Аввакум всей своей жизнью и своей деятельностью доказал это.
У Аввакума были красивые большие серовато-голубые глаза, спокойные и задумчивые. Но людям честолюбивым — таким, например, как я, — трудно было вынести его взгляд: они сразу же чувствовали себя первокурсниками, робеющими перед своим профессором. Взгляд его, казалось, проникал в мозг и взвешивал на самых точных весах мысли собеседника. Лицо его — сегодняшнего Аввакума — представлялось мне сейчас хуже, чем когда бы то ни было. Оно напоминало лицо то ли художника, отставшего от времени, то ли артиста, покинувшего сцену, то ли стареющего холостяка, у которого за спиной множество любовных историй. Морщины, избороздившие лоб и щеки Аввакума, стали длиннее, подбородок — костистее, челюсти — резче очерченными. Волосы и виски серебрились еще больше, кадык заострился.
Худощавость придавала его лицу подчеркнуто городской, я бы сказал, даже аристократический вид; никто бы и не подумал, что в жилах его предков могла быть хоть капля крестьянской крови. Но руки его, с сильными кистями и длинными пальцами, с резко очерченными сухожилиями излучали первобытную силу и врожденную ловкость. Я всегда думал, что среди его предков непременно были строители мостов и домов типа, скажем, трявненских или копривштенских мастеров.
Высокий, сухощавый, в широкополой черной шляпе, в свободном черном макинтоше, мрачный, но с горящими глазами, он походил на того странного вестника, который явился когда-то к больному Моцарту и поручил ему написать «Реквием».
По натуре общительный, Аввакум жил уединенно, и это было непонятным, труднообъяснимым парадоксом его жизни. Он имел много знакомых — особенно среди художников, археологов, музейных работников, — и все они признавали его большую культуру, его несомненные достоинства как ученого и то, что он интересен и занятен как человек. Аввакум был желанным гостем в любой компании, его общества искали, с ним можно было засидеться за полночь и не заметить, как пролетело время. Он был тем, кого французы называют «animateur» — душой небольших компаний культурных и воспитанных людей.
И вопреки всему этому у него не было друзей. Было много знакомых, но жил он очень одиноко. Почему?
Аввакум был любезным и внимательным собеседником, но никогда и ни в коем случае не позволял себе быть «прижатым к стене». Он обладал огромными познаниями и гибким умом и во всех спорах оказывался бесспорным победителем. А ведь известно, что множество людей с трудом терпят чужое превосходство, не любят чувствовать чей-то перевес над собой. Они могут уважать «превосходящего», слушать его, рукоплескать ему, но любят его редко.