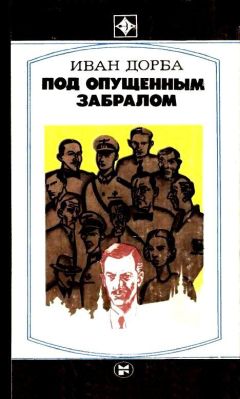В длинных, просторных, крытых железом деревянных бараках разместились беженцы, военные с семьями, офицерский состав и часть казаков. Остальные разбили сначала палатки, потом выстроили землянки.
Кучеров прожил несколько дней в офицерском бараке. Чувствовал он себя плохо, болела рана, и он целыми ночами не спал. Его раздражало все: и прочно установившееся ненастье, и окружающая его офицерская среда, которую, казалось, кроме карт и разговоров о женщинах, ничего не интересовало, и дурацкие приказы начальства, и союзники, показавшие свое истинное лицо, те самые союзники, за которых он так ратовал в 17-м и 18-м годах, призывая казаков оставаться верными данному слову и воевать против немцев. Раздражала и лагерная, похожая на тюремную жизнь, и отвратительная, все ухудшающаяся еда, и навязчивая мысль о непоправимо совершенной ошибке.
Прожив несколько дней в бараке, он переселился к Попову и разведчикам в вырытую ими землянку. Здесь, среди станичников, несмотря на сырость и холод, ему стало легче. И когда ему предложили переехать в административный центр лагерей Донского корпуса Хадэм-Кой, где находился штаб генерала Абрамова, Кучеров отказался, сославшись на болезнь.
Только тут, оставшись как-то наедине, вахмистр рассказал ему подробно все, что слышал, сидя на чердаке Блаудиса. Передал и табакерку и бумажник, взятые у английского разведчика, так и оставшегося неизвестным.
Они долго обсуждали, что делать со списком. Сохранить его или уничтожить? И если сохранить, то для какой цели? Попов считал, что документ следует передать советским властям.
— Хай новые власти голову с ними ломают, не то много наделают бед нашим людям, если список попадет в руки сволочам союзничкам. Какая власть в России ни на есть, она свой дом защищать должна. — Он ударил своим огромным кулачищем по колену. — И всем казакам надо подаваться на Дон. Нам с тобой, Петро, иное дело, тебя комиссары сразу в штаб Духонина, ну и меня, может, как дружка твоего закадычного, чтобы не скучал. А казакам тут делать нечего. Окромя как в конюхи идти к англичанам вроде калмыков Дзюнгарского полка! Срам!
Кучеров вертел в руках черную лакированную табакерку из папье-маше, подлинное произведение искусства XVIII века, созданное мастерами знаменитой французской фирмы «Мартен», и думал о том, что его друг, по сути дела, прав, сумев преодолеть в себе чувство ненависти к торжествующему народу и побороть ложный стыд перед товарищами. Он, Кучеров, сделать подобное не в силах. Не в силах, глядя в лица своим казакам, сказать, что их братья, сыновья и отцы отдали свою жизнь напрасно и сами воевали не за правое дело.
— Знаешь, Иван, — сказал он после долгой паузы, — поспешишь — людей насмешишь, поглядим, как там будет в России. Пусть народ сам разберется что к чему. А когда все утрясется, подумаем, кому и как передать список, покуда же пусть лежит в табакерке.
— Может, ножиком соскрести этих измалеванных баб, никто на нее и не позарится. А насчет народа — ведь мы тоже народ!
Вдруг в другой половине землянки затарахтела консервная банка. Чего только не делали из этих банок и для чего только они не служили! Из них ели, в них готовили, хранили табак. В Чилингирском лагере ими отделали церковный иконостас, соорудили люстры, подсвечники. А в Чаталджи устроили выставку кустарей. Пустые консервные банки валялись повсюду, возвышаясь горами и пригорками у бараков и землянок. И вот черт дернул бросить на пол пустую банку и, наверно, тот же черт дернул наступить на нее Чепиге, который, войдя своей кошачьей походкой в землянку, услышал восклицание вахмистра: «И всем казакам надо подаваться на Дон!» Человек он был любопытный, хотел послушать, да зацепил ногой за банку.
В тот же миг перед ним, точно из-под земли, вырос раздосадованный вахмистр. Его кулаки были сжаты, он весь наклонился вперед, словно готовился к прыжку, а глаза гневно и пытливо смотрели прямо в глаза. «Убьет, ни за понюх табаку убьет!» — подумал Чепига и, сделав удивленное лицо, спросил:
— Чего это вы, Иван Гаврилович, зенки на меня так таращите? Аль давно не видели? — Потом, опустив глаза, продолжал: — Ну лады! Кто богу не грешен, царю не виноват? Слышу, про Дон гуторите, полюбопытствовал, каюсь, — последнее слово он произнес, меняясь в лице, и совсем тихо, словно про себя. — Насчет того, чтобы казакам на Дон подаваться, я согласный, а до всего прочего — мое дело сторона.
На пороге появился Кучеров, он держал в руках табакерку и скручивал цигарку. Потом, сунув табакерку Чепиге, сказал:
— Давай, Рыжий Черт, закурим и поговорим ладком. Что нового слыхать в лагере?
— Нехорошие толки пошли: вроде не нынче-завтра первую и вторую дивизии, и Терско-Астраханский полк, и артиллерийские, и технические соединения французы отправят на Собачий остров.
— Собачий? Брехня! Нету такого острова! — рявкнул Попов.
— Лемносом он по-турецки зовется. — Степан Чепига заметно оживился, бледность с лица постепенно сходила. — У турок убить собаку — великий грех. И расплодилось их в Царьграде видимо-невидимо. Голодными стаями шастали по улицам, нападали на людей, бесились и все такое прочее. Потому турецкий султан велел изловить всех собак и отвезти на безводный, пустынный остров. Так и сделали. Вроде и воли аллаха не нарушили, и от собак избавились. Там они все околели от жажды и голода. Знать, и нам не избежать собачьей доли. Разрази меня гром на энтом месте, если ироды союзнички не спровадят казаков на Собачий остров!
— Неужто правда?
— За что купил, за то и продал. Казаки гуторят: «Негоже, мол, нам свои казацкие кости на чужбине сеять да с собачьими смешивать. Не поедем на Лемнос!»
— Лягушатники! Гады! Их бы самих, сволочей, туда отправить, а с ними и... — вскипел вахмистр и повернулся на стук к входной двери.
— Генерала Кучерова просят немедленно явиться в штаб генерала Абрамова.
Кучеров надел шинель, фуражку, взял из рук Чепиги табакерку, сунул ее в карман, молча похлопал разведчика по плечу и, обратившись к вахмистру, сказал:
— Пошел за слухами в Москву. Буду не раньше как к ужину. А вы соберите к тому времени надежных казаков.
— Слушаюсь! Собрать надежных казаков! — дружно рявкнули, вытянувшись, вахмистр и урядник.
Генерал вышел и зашагал по раскисшей от дождей глинистой дороге в сторону станции Хадэм-Кой, где находился штаб корпуса. Бледное зимнее солнце время от времени проглядывало сквозь серые тучи и освещало унылую, поросшую чахлым кустарником долину, затянутую у подножия гор и пригорков белесым, ядовитым туманом. Кучеров был расстроен. «Нет дыма без огня, — подумал он, увидев у железнодорожной станции выстроенный французский батальон. — Шарли что-то задумал».
Генерал Абрамов объявил собравшимся командирам решение французского командования перевезти все строевые и технические части, находящиеся в лагере Санжак-Тэпэ, на Лемнос. И попросил господ командиров уговорить казаков тому не противиться, ибо французы применят вооруженную силу. А на возражение командира лейб-гвардии казачьего полка, что к ним тоже можно применить силу, криво улыбаясь, заметил:
— Что ж, тогда объявим Франции войну! Или всей Антанте?
Никто не проронил больше ни слова.
— Но это еще не все, — продолжал Абрамов, — французы пытались наложить арест на войсковую казну, на ценности, которые мы вывезли из Новочеркасска, они покушаются на военный флот, хотят реквизировать суда. Мало того, нам стало известно, что командующий французскими войсками генерал Шарпи готовит чреватый последствиями приказ с целью распылить казаков и развалить армию. Всем будет предложено вернуться на родину. И это, господа, самое опасное. С этим нужно бороться любыми средствами. Бороться за каждую душу.
Он обвел взглядом присутствующих, откашлялся и продолжал:
— Мало того, угрозами и посулами будут вербовать во французский Иностранный легион, на кофейные плантации в Бразилию и Перу, на сбор чая в Мадагаскар, на работу в виноградниках, садах и полях Греции и тому подобное. Приказ командующего французскими войсками вступит в силу после того, когда наши части будут переправлены на Лемнос, то есть когда французы смогут держать нас в руках. Наступают, господа, трудные дни. Генерал-губернатором острова назначается генерал Бруссо, в этом тоже нет ничего утешительного. В его распоряжении будут сенегальские стрелки, конная жандармерия и матросы стационера «Ова». То же самое относится и к беженцам, как к гражданским, так и к военным, их намереваются либо вернуть на родину, либо отправить на постоянное местожительство.
«А что, если я всем им прямо скажу, что согласен с французами и считаю возвращение на родину единственно правильным выходом? — думал Кучеров, слушая корпусного командира. — Что им мыкаться по свету? И что можем мы им дать? Куда нацелить? Во что заставить верить? Что, кроме иллюзорных надежд на скорую гибель большевистского режима, можем им посулить?» Кучеров посмотрел на сидящих во главе стола командиров полков, на сытых, самодовольных, одетых с иголочки представителей Врангеля и Богаевского, потом скользнул взглядом по хмурым лицам обер-офицерского состава и подытожил: «Тут меня и прикончат!»