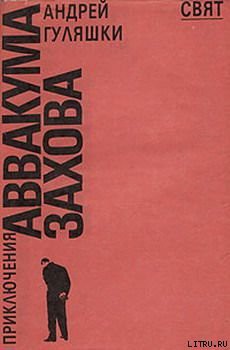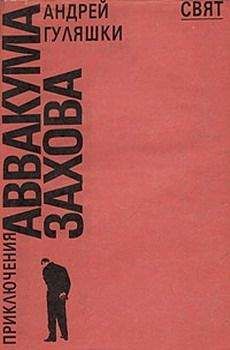Некогда, во времена царя Асена, здесь стояла неприступная крепость. И византийцы, и полчища императора Болдуина зарились на эти земли, но крепость, видимо, крепкой костью засела у них в горле. Конечно, сейчас никто в деревеньке не помнит древних зубчатых башен. Ничего здесь не сохранилось от тех далеких времен. Несколько десятков домиков, сложенных из камня, под тесовыми крышами и за ними гряда безлесных зеленых холмов, пасторальная тишина и нежное южное небо — вот что такое Триград.
Отсюда начинается пограничная зона. Зеленые овраги, девственные заросли кустарников, луга, покрытые папоротником и сочной душистой травой, шумные потоки и болтливые тихие речушки, дремучие, темные боры, которым, кажется, нет ни конца, ни края; то тут, то там стоят кооперативные кошары, крохотная гидростанция в деревянном сарае, одинокая линия электропроводов. Слышится звон медных колокольчиков, тихий и напевный, старый-престарый, как легенда о родопском Орфее. Кто знает, быть может, когда-то Орфей и бродил по здешним местам. Край этот не только красив, но и очень удобен для разведения скота. Условия для массового выпаса кооперативного стада просто отличные!
А дальше к югу тянутся лесистые отроги, прочерченные козьими тропами. Тишину здесь нарушают летом лишь ночные птицы и серны, а зимой волчий вой. Пограничная полоса извивается черной лентой по хребту, спускается в мрачные ложбины, снова поднимается и исчезает в безмолвной голубой дали.
В этом царстве гор, вдали от городов и асфальтированных шоссе, на редких открытых местах сгрудились маленькие деревеньки. Там, где на поверхность выходит мягкий каменный плитняк, домики каменные, а близ отрогов, заросших лесом, — деревянные. Эти деревеньки вместе с Триградом и образуют мой живописный ветеринарный участок. Мягкие проселочные дороги и извилистые тропинки ведут от деревни к деревне, и нет для меня большего удовольствия, чем бродить по ним, особенно когда нет ни тумана, ни дождя.
Обуваю я туристские ботинки, взваливаю на плечи ветеринарную сумку и с палкой в руке обхожу свои владения. В хозяйствах скота много, но рабочих рук не хватает; окрестные шахты и заводы в Рудоземе и Мадане, как магнит, притягивали молодежь. Молодые покидали деревню, устраивались на работу, получали квартиры, а за ними плелись и старики. Поэтому многие дома стояли пустые и на воротах висели замки. В таком же положении оказалась и деревня Видла.
До чего же красиво это орлиное гнездо, свитое меж двух холмов среди лугов и лесов, под бездонным лазурным куполом южного неба! Воздух благоухает цветами и сосновой смолой, в зарослях папоротника и ежевики журчат ручейки, а вокруг, насколько хватает глаз, там и сям белеют, словно рассыпанные бобы, стада.
Но деревня выглядела печально. На многих воротах висели тяжелые замки, из красных кирпичных труб давно уже не вился дымок.
— А хозяевам и горя мало — гребут денежки на шахте… Ну и пусть! — говорил, хмуро поглядывая из-под бровей, седовласый Реджеп, когда встречался со мной на маленькой деревенской площади.
Он был председателем кооперативного хозяйства и местной организации Отечественного фронта.
Я останавливался у него в домике. Даже когда Реджеп говорил о делах радостных, он все равно тихонько вздыхал. Я знал, что тяготило старого Реджепа. В хозяйстве было двадцать молочных коров, более ста овец и много гектаров тучных лугов, которые давали за лето несколько укосов. А людей было в обрез: всю молодежь по пальцам пересчитаешь! Хотя моя, так сказать, основная база находилась вовсе не в Видле, я надолго засел там. Сам удивляюсь, что влекло меня в эту глухую деревеньку. В домике деда Реджепа было две комнатушки, крохотные, как коробочки, и кухня. В одной жил он со своей внучкой Фатме, а в другой — я. Фатме шел восемнадцатый год. В той местности только старухи ходили с закрытым лицом, и это было очень хорошо. Итак, до сих пор я не знаю, что удерживало меня в Видле. Во всяком случае, я надавал кооператорам тысячу полезных советов. Научил их закладывать в ямы силос, сушить сено в приподнятых копнах, чтобы не прело от дождя. Показал им. как небольшим количеством питательных кормов повысить удои, как сделать брынзу более жирной и вкусной и как удлинять срок ее хранения. Лечил заболевших животных, рвал зубы, даже сам подковал лошадь деду Реджепу.
А Фатме была похожа на серну. Когда я впервые увидел ее, то сразу же вспомнил Теменужку, такую же светловолосую, с глазами синими и ясными, как безоблачнное утреннее небо над Видлой. Но Фатме была выше ростом и стройнее, ее босые ноги будто не касались земли. Она ходила в темном сукмане [1], широком в плечах и узком в талии. А из-под него белела, спускаясь почти до икр, белая посконная рубашка, обшитая по низу кружевами. Загорелые ноги Фатме были цвета темной бронзы, и от этого рубашка казалась еще белее.
Фатме вставала до восхода солнца, и я слышал, как ее босые ноги проворно шлепают по глиняному полу. Она раздувала погасший огонь в очаге, доила свою белую козочку и вешала над огнем на закопченной цепи котелок с парным молоком. Утро в горах отличается приятной свежестью, особенно на заре, поэтому я бодро вскакивал с топчана и выходил во двор. Фатме рубила хворост и с привычной сноровкой растапливала печь. Я. как умел, помогал ей: дул изо всех сил на сухую солому и хворост, так что глаза слезились от дыма, а Фатме смеялась; приносил воду из родника и, наполняя корчаги, выливал добрую половину себе на ноги, вызывая у Фатме неудержимый хохот. Когда она смеялась, два ряда бус так и прыгали у нее на груди, и я любовался разноцветными бусинками — они казались мне необыкновенно красивыми! Впрочем, Фатме стала надевать свои бусы лишь вскоре после того, как я остановился у них на квартире. Тогда же у нее появился и розовый целлулоидный браслет.
Она соскребала с хлеба подгоревшую корочку, покрывала стол сине-белой скатеркой, поливала деду на руки и, налив молоко в глубокие глиняные мисочки, садилась завтракать вместе с нами, непринужденно повернув колени в мою сторону. Она очень уважала дедушку и не хотела стеснять его за столом.
А когда солнце высовывало из-за гор свой багровый лоб, Фатме бежала на ферму выгонять коров на пастбище.
Седой Реджеп вздыхал и уже в который раз принимался рассказывать о семейных невзгодах. Три года назад мать Фатме скончалась от укуса гадюки. Такова, видно, была воля божья. Сын уехал в Мадан на рудники, скопил денег, женился на какой-то разведенной, вызвал к себе Фатме и устроил ее на хорошую работу. Казалось бы. чего лучше? Но в деревне дела пошли из рук вон плохо. Обезлюдели поля, некому стало пасти скот. Тогда дед не стерпел и поехал в Мадан за внучкой. И хорошо, что приехал вовремя: непоседа уже успела вскружить голову одному парню, а это вовсе не входило в расчеты председателя. Коровы остались без присмотра, а от молока и брынзы зависело благополучие всех кооператоров. Сын не соглашался, и Фатме упиралась, но старик настоял на своем. «Если старый и малый разбредутся по шахтам, — сказал он, — кто будет пахать, пасти коров и овец? С голоду околеете!» Дед подхватил Фатме и увез с собой в деревню. Теперь она пасет коров, и Реджепу стало легче. Ведь он, как председатель, должен заботиться о всех. Но осталась у него заноза в сердце, которая не дает покоя. Фатме пора уже замуж, пора обзаводиться своей семьей и домом, а Видла оскудела женихами. Правда, есть несколько парней, но двое из них моложе Фатме, а трое других давно уже обручились, и если год выдастся хорошим, то осенью они справят свадьбы. Если же выйти ей за парня из другой деревни, тоже плохо: кто тогда будет пасти коров, сгребать и складывать сено? Земля требует своего. И он, Реджеп, должен заботиться о всех, потому что он председатель, а людей не хватает.
Вот какие заботы одолевали деда Реджепа.
Но сама Фатме и не думала тужить. Ее веселый, жизнерадостный смех разносился по двору; глаза сияли, а бусы так и прыгали на ее девичьей груди.