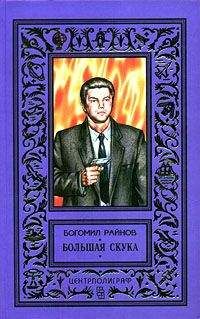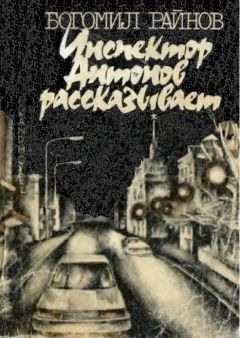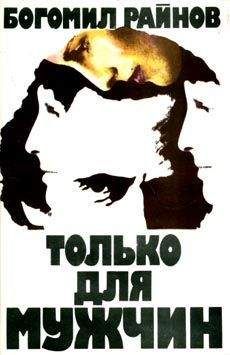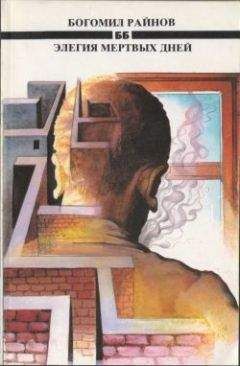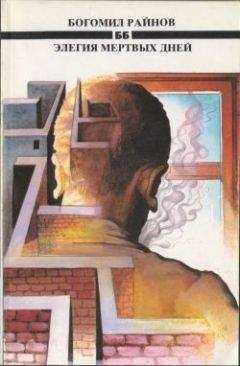Это, конечно, был шантаж, но что я мог поделать? Противиться? Тянуть? Я так и делал. Противился и тянул до самого Редби. Доказывал им, что я не виновен, будто они сами этого не знали. Говорил, что я не тот, за кого они меня принимают, и что никаких сведений я дать не в состоянии. Изворачивался, как только мог, но что было делать, раз они схватили меня за жабры и сила была на их стороне?
«Нам хорошо известно, кто вы такой, герр Тодоров, — без конца повторял он. — И не беспокойтесь: мы не станем требовать, чтобы вы говорили больше того, что знаете. Мы проявим к вам большую щедрость, чем та, которую вы проявили к бедному Соколову».
Когда мы прибыли в Редби, он, показывая мне на полицейских, стоящих на перроне, говорит: «Время для размышления истекло, герр Тодоров. У вас остается одна минута: либо вы принимаете предложение, либо вы его отклоняете». Что мне было делать? Принять? Я подумал: а что случится, если я приму его предложение? — прерывает сосед свой рассказ в самый ответственный момент.
— Оставьте пока свои размышления, — говорю я. — Придерживайтесь фактов.
— Факты таковы, что я согласился.
— Согласились на что?
— Согласился стать предателем. Но ведь это же совсем пустячная история, товарищ Боев…
— Ш-ш-ш!
— Совсем пустячная история; ну скажите, кого и как я могу предать, когда я ничего не знаю, когда я не в курсе дела, вы же прекрасно знаете, что я не в курсе дела…
Он замолкает на минуту как бы для того, чтобы лучше видеть, как я закуриваю одной рукой. Потом снова возвращается к своей «пустячной» истории.
— Допрос начался уже на обратном пути из Редби в Копенгаген, потому что мы тут же пересели на другой поезд и поехали обратно. А потом продолжался уже здесь, и не час и не два, а три дня подряд, пока всю душу из меня не вынули. И чем дольше длился допрос, тем мне становилось яснее, что они разочарованы, что после всех этих вопросов и ответов они сами начинают понимать, что я совсем не тот человек, какой им нужен.
— Кто именно тебя допрашивал?
— Да тот, из поезда, Джонсоном его звали, он у них главный, и другой, худой такой, низенького роста, по имени Стюарт.
— Расскажи толком, какие они из себя, эти типы?
Тодоров пытается удовлетворить мое любопытство, однако его описание до того скупо и бледно, что невольно напрашивается вывод: дар наблюдательности у этого человека начисто отсутствует. Можно было бы подумать, что он уклоняется, не желает давать точных показаний, если бы я не знал, что именно ложные показания обычно изобилуют множеством деталей, отличаются крайней обстоятельностью. Во всяком случае, даже эти скудные данные о Стюарте и Джонсоне в достаточной мере убеждают меня в том, что ни тот ни другой не относятся к числу моих американских знакомых.
— Что они спрашивали про Соколова?
— Все, что приходило им в голову…
— А что ты отвечал?
— Тут я их околпачил! — В словах Тодорова звучат нескрываемые нотки самодовольства. — Это был единственный вопрос, которым они могли что-то выудить из меня, но я их околпачил. Сказал им, что Соколов подрядился сообщать нам сведения о деятельности и планах эмиграции в ФРГ, что я ему вручил лишь аванс за его услуги, что сведения должны были поступать через его брата в зашифрованном виде. А о микропленке даже словом не обмолвился…
— Понятно. Чтобы не дать им материала против себя.
— Верно, и это я имел в виду, — отвечает Тодоров после короткой паузы. — История с ножом придумана, а что касается микропленки, то тут все верно, и мне не хотелось давать им в руки еще одно оружие, чтобы они добили им меня, когда захотят. Но главное соображение состояло не в этом, товарищ…
— Ш-ш-ш! Что я тебе сказал?
— Главное соображение состояло в том, что отдать им пленку, когда наша страна так нуждается в этих сведениях, значит взять грех на душу… Я знал, что в один прекрасный день вы придете, и эта пленка…
— …окажется крайне полезной, чтобы искупить преступление, — заканчиваю я фразу Тодорова.
— Да что это за преступление? Вы сами видите, что никакого преступления тут нет, что я перед вами как на духу…
— А триста тысяч, предназначавшиеся фирме «Универсаль», те, что ты прикарманил?
Тодоров молчит.
— Что? Язык отнялся?
— Просто я попал в безвыходное положение, — бормочет мой собеседник. — Попал в безвыходное положение, товарищ… извините, все забываю, что не должен называть вас по… Я не оправдал их ожиданий, и они бросили меня на произвол судьбы… Вернее, дали мне тут, в представительстве «Форда», жалкую курьерскую должность, лишь бы с голоду не помер… И я, поскольку положение было безвыходное…
— Не доводи меня до слез, — бросаю я. — И прежде чем врать, думай как следует. В Редби первым утренним поездом ты не ездил. Либо ты вообще не ездил туда, либо ездил позже, потому что, прежде чем сесть на поезд, ты дождался, пока откроются банки, и сделал вклад на свое имя, а потом отбыл в «Универсаль» и устно аннулировал сделку, чтобы фирма случайно не связалась с торговым представительством и не стали спрашивать, в чем дело, и чтобы твоя афера не раскрылась раньше, чем ты успеешь замести следы…
— Нет, это не так, уверяю вас…
— Слушай, Тодоров, ты отменил сделку уже на следующий день после того, как была достигнута договоренность!
— Я боялся…
— И со страха ты прикарманил триста тысяч. Чего же ты так боялся?
— Ведь я же сказал: за мной следили.
— А прежде никогда не случалось, чтобы за тобой следили?
— Случалось… Но в этот раз…
— Тодоров!.
Призыв звучит вполголоса, но довольно внушительно.
— В сущности, Джонсон посетил меня в отеле еще вечером, после того как мы расстались с Соколовым. И вначале никаких угроз не было, одни только обещания. Обещали много. Однако я не дал согласия, и тогда они стали меня шантажировать этим убийством, а все остальное было точно так, как я рассказал, кроме этой истории с деньгами, но я очень перетрусил и действительно на другой же день аннулировал сделку и, прежде чем сесть на поезд, отнес деньги в банк, потому что мне предстояло целые сутки ехать по дорогам ФРГ, а в дороге все могло случиться, и потом я не сомневался, что Джонсон, раз уж он ко мне прилип, так просто не оставит меня, поэтому я решил на всякий случай…
— Ясно, — говорю. — Не успели они тебя немного прижать, как ты капитулировал. А сейчас перейдем к другим вопросам.
Вопросов у меня немного, и касаются они лишь некоторых деталей, потому что сейчас не время, да и особой надобности нет досконально докапываться до всего. Мне просто хочется выяснить некоторые частности, имеющие отношение ко мне, а точнее — к действиям противной стороны. Тодоров отвечает по мере своих возможностей, а я, тоже по мере возможности, не позволяю ему сползать с твердой почвы фактов.
— Ну, а теперь? — тихо говорю я.
Сосед смотрит на меня так, словно не понимает, что я имею в виду.
— Я хочу сказать: если мы поставим крест на всем этом, ты вернешься домой? Не сюда, на Нерезегаде, а в Софию, в ту прекрасно обставленную квартиру?..
— Да… Только бы найти способ вырваться отсюда целым и невредимым. — Потом, немного подумав, он повторяет: — Да, еще бы. Вернусь, конечно, только бы найти способ…
Однако в тоне обеих деклараций чего-то явно не хватает. Прежде чем ставить крест на его преступлении, этот человек поставил крест на своей родине.
— Впрочем, это дело твое, — говорю. — И я пришел сюда не для того, чтобы оформлять тебе паспорт. Адрес нашего представительства ты знаешь. Боюсь, что тебе не известно другое: что национальная принадлежность ко многому обязывает, к тому же, Тодоров, ты забыл о национальной гордости.
— Но ведь я… Неужто вы думаете, что я…
— Я ничего не думаю. Лучше ты подумай. И если найдешь в себе мужество раскаяться в своем предательстве…
— Но я не предатель… Вы же сами видите, что никого я не предал!
— Никого, если не считать своей родины. И если не говорить еще о том, что ты и меня предал.
Мой приятель умолкает.
— Что? Опять язык отнялся?
— Они меня заставили… — бормочет Тодоров. — Как только им становилось известно, что приезжает болгарин, они тут же тащили меня на аэродром, на вокзал или на пограничный пункт. Без конца запугивали меня, и я должен был всех узнавать… И когда вы сошли с поезда… Не знаю, как это получилось, но, видимо, чем-то я себя выдал, потому что Стюарт схватил меня за руку и зарычал мне в лицо: «Ты знаешь этого человека!» И я, хотя вначале отрицал, запутался…
— Да, да, — вставляю я. — Ты до такой степени запутался, что незаметно для себя рассказал, кто я такой и в каком чине. Ты из той породы людей, которые, как только запутаются, обязательно сделают подлость. Я только что услышал о последней твоей подлости. А какая была первая, помнишь?
И так как Тодоров молчит, а мне время дорого, я отвечаю вместо него:
— Та, с Маргаритой.