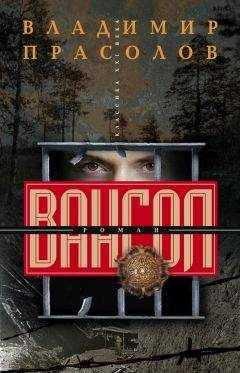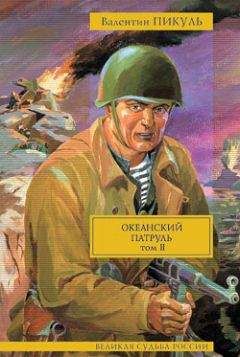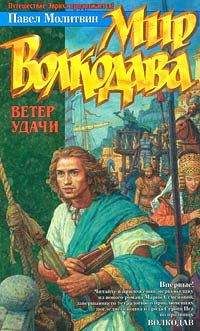— Не знаю как, но немцы Москву не возьмут. Мы победим, это точно, мне Вангол сказал.
— Сын, ты меня удивляешь, да, я тоже верю, что мы победим, но не потому, что это кто-то сказал!
— Папа, это не кто-то сказал, это сказал Вангол. Я был с ним в тайге, это необыкновенный человек. Он обладает просто феноменальными способностями. Я сам видел, и я знаю, что ему можно верить.
— Хорошо, ты меня убедил, — покачав головой, улыбнулся отец. — Где он?
— Не знаю, он сошел с поезда по пути в Москву, — не вдаваясь в подробности, ответил Владимир. — Скорее всего, воюет где-то. Мама, прошу, он должен дать о себе знать открыткой, вот мой адрес, полевая почта, перешлите мне ее сразу, хорошо?
— Конечно, сынок, сразу, как придет, перешлю, ты ешь, ешь.
— Спасибо, я уже сыт. Пора, дорогие мои, пора.
Мать долго не выпускала сына из объятий.
— Володя, увидишь Степана, передай, у нас все хорошо, почему он не пишет? Пусть напишет письмо… — теребила его Мария.
— Хорошо, Мария, обязательно передам.
Но передать привет Владимир не смог. Он не встретил Макушева. Не мог его встретить. Степан к тому времени лежал в госпитале. Кроме того, ни батальона, ни роты, откуда его увезли раненным, уже не существовало. Никто толком не знал, где находится штаб полка. Да и вообще, не вовремя он появился из госпиталя. Какой-то полковник в штабе дивизии, куда Арефьев попал в поисках своей части, наорал на него, дескать, почему не в расположении своего полка, трибуналом грозился, за кобуру хватался, потом вызвал особистов. Те посмотрели документы, справку из госпиталя и наорали на полковника. Потом досталось от них и Владимиру, дескать, почему сразу не предъявил документы, и посадили его под арест. Потом была бомбежка, его выпустили из арестантской землянки и приказали ждать. Потом его опять допрашивали, десятый раз он объяснял, что из госпиталя, после ранения. После долгого разбирательства его направили командиром взвода в полк формирующейся резервной армии, прикрывавшей тылы фронта на северо-западе столицы.
«Ну и бардак кругом творится», — думал Арефьев, добираясь туда попутками через всю Москву. Там он впервые услышал о подготовке к наступлению. После того, что он пережил на передовой, это было невероятно. Он увидел пополнение из крепких и здоровых мужиков — сибиряки прибывали эшелонами. Они были готовы ринуться в бой, но их держали в резерве, несмотря на тяжелейшую ситуацию. Получалось, ценой тысяч жизней одних, погибающих там, на ближних подступах к Москве, создавался этот резерв. Да, война есть война. Кто-то должен умирать сначала, а кто-то потом. Владимир уже отчетливо понимал, что у войны свои законы, свои правила. Они не похожи ни на что. Это какие-то неведомые людям законы судьбы. Он видел в госпитале: привезли раненого артиллериста, на нем живого места не было. Весь в кровавых бинтах. Военврач подошел, пальцами пульс на шее через бинты прощупать не может, а тот в сознание пришел, глаза открыт, улыбается, врачу говорит: «Вы не бойтесь, потрошите меня, вынимайте железо, я не помру, у меня еще столько дел». И выжил. Арефьев принял взвод. Он оказался моложе своих подчиненных. Но он был фронтовик, он уже был обожжен войной и потому принят был с уважением. Комбат, капитан Трофимов, тоже фронтовик, тоже из госпиталя, при встрече спросил Арефьева, где тот воевал. Арефьев доложил — где и сколько. Узнав, что недолго, изучив Владимира взглядом, Трофимов одобрительно кивнул:
— Ну и добре, напугать тебя фашист не смог, к отступленьям не приучил, значит, будем бить его, супостата, и гнать отсель за милую душу вместе.
— Так точно, — улыбнулся Арефьев.
Тщательно подобранный для него белый овчинный полушубок и валенки он принял из рук интенданта, наконец скинув свою холодную милицейскую шинель, протертую до дыр и не раз штопанную.
— Во, любо глянуть на нашего командира! — одобрил старшина Похмелкин, увидев вошедшего в казарму Арефьева.
— Здравия желаю, товарищ лейтенант! — встал перед ним лейтенант Прокопьев.
— Здравия желаю! — козырнул Арефьев и, протянув руку, представился: — Владимир.
— Николай, — ответил лейтенант и крепко пожал руку Арефьеву. — Назначен командиром второго взвода, так что будем вместе воевать.
— На фронте был?
— Нет, но теперь уже точно буду… — серьезно ответил и улыбнулся Николай.
— Располагайся, вон у окна моя койка, рядом свободная.
— Добро, сутки не спал, пока добирался. — Лейтенант сунул под кровать вещмешок и принялся снимать сапоги.
— Ты откуда?
— Из Вологды. То есть добирался из Вологды, а так сам из Ленинграда, там в училище был, потом нас в сентябре эвакуировали в Вологду, до сих пор мурашки по коже, как вспомню…
— Это ты про что?
— Про эвакуацию.
— А что так?
Лейтенант посмотрел в глаза Арефьеву. Владимир увидел его лицо и обратил внимание, что его коротко остриженные волосы абсолютно седые. Глаза Николая смотрели испытующе строго. Арефьев спокойно выдержал его взгляд.
— Нам запретили об этом говорить, только я не понимаю почему.
— Кто запретил?
— Особист нашего училища.
— Тогда не говори. — Владимир скинул с себя одежду и устроился в кровати, с удовольствием укрывшись настоящим ватным одеялом. Он тоже устал и хотел спать.
— Да нет, я расскажу, в голове все это сидит. Я как будто снова и снова через это прохожу. Устал носить в себе, понимаешь…
— Тогда говори, я слушаю.
— Это было семнадцатого сентября, в Ленинграде, уже в блокаде, нас привезли с Финляндского вокзала эшелоном на берег Ладожского озера, не помню названия поселка, у причала стояла большая деревянная баржа. На берегу народу море, курсанты нескольких училищ, комсостав с семьями, женщины, дети. Тысячи полторы. И всех на эту баржу. Несколько часов просидели в ней, в трюме, только к вечеру подошел буксир и потащил баржу на ту сторону. В общем, набились как селедки в бочке. Сначала все было нормально, мы спали, но к полуночи разыгрался шторм. Баржу бросало как игрушечную, потом стало заливать. В трюме было просто жутко. Доски обшивки трещали, и через щели сначала сочилась, а потом просто стала бить струями вода.
Николай замолчал, было видно, как трудно ему вспоминать. Желваки играли на его скулах, глаза потемнели, но он справился и продолжил:
— Потом стали лопаться доски обшивки, и вода пошла в трюм. Представляешь, Владимир, что там было, все кинулись наверх, на палубу, трап не выдержал и рухнул. Вода поступала все сильнее, ее пытались откачивать, но это оказалось бесполезным. Было всего три или четыре ведра и допотопная ручная помпа на огромную тонущую баржу. Я встал на помпу и качал что было сил, видел, что без толку, но у меня какой-то дикий, животный страх прошел, к тому же я согрелся. Как так можно, почти полторы тысячи людей — и ни одной шлюпки или плота! Вообще ни одной, представляешь! Сбросили за борт автомашины с грузом, но и это не спасло. Баржа, заполняясь водой, медленно погружалась. Она была деревянной и не должна была утонуть, но она опустилась вровень с бушующей поверхностью озера. Огромные волны перекатывались через палубу, смывая с нее пассажиров. Держались за что могли, но холод и страх лишали людей сил бороться за жизнь. Это не передать словами, у меня на глазах один из офицеров пристрелил дочь, жену и застрелился сам. Людей смывало с палубы десятками. Женщин, детей, кто смог выбраться из трюма, собрали в рубке, она защищала от волн. Но потом… Последнее, что я помню, — это как волной сорвало эту рубку со всеми, кто там был, и унесло в клокочущую за бортом воду. Я не выдержал, разделся и прыгнул за борт, вдалеке болтался в волнах буксир. К нему я и поплыл. Со мной еще двое наших курсантов поплыли, но до буксира я доплыл один, потонули, видно, больно холодная была вода, да и волны… Как доплыл, толком и не помню… Вот такая вот эвакуация получилась… Столько народу на дно… а вышли бы на два-три часа раньше до шторма, успели бы пройти. Чего нас там мурыжили полдня! За столько народу кто-то же должен был ответить? Как думаешь?
— Думаю, на войну все и всех списали.
— Вот то-то и оно, а надо бы к ответу…
— Тебе что, от этого легче станет? Или тем, потонувшим?
— Станет.
— Не станет, потому как запретили вам про это рассказывать именно для того, чтобы не было кому спрашивать, почему так случилось. А значит, и отвечать никому и ни за что не надо. Вас там много выжило?
— Двести сорок человек всего. Я это потом узнал уже, на берегу, когда списки составляли.
— Одно могу сказать — в газетах про это точно не напишут. И тебе советую про это помалкивать. Рассказал мне, и все, больше никому, Николай. Понимаешь?
— Да все я понимаю, спасибо, что выслушал, легче мне стало, правда, легче.
— Ну и хорошо, давай спать.
Николай повернулся на бок и закрыл глаза. Он долго лежал, картины той ночи на барже медленно текли в его голове, но на этот раз он как бы наблюдал происходящее со стороны, он уже не испытывал ужаса, страха и боли. Постепенно краски поблекли, и он уснул крепко и спокойно.