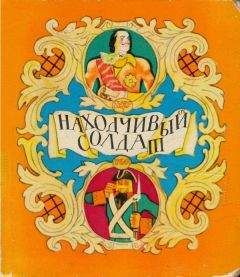Из окна, с которого Егоркин, проснувшись, содрал синюю маскировочную бумагу, студено брезжило зимнее утро. Окно выходило в колодец двора. Подойдя к ному, Егоркин глянул вниз и, удостоверясь, что его фаэтон на месте, надел шапку–ушанку. Ехать так ехать. Хоть к черту в зубы. Ему не привыкать.
— А вам еще рано, успеете намерзнуться, — сказал Мещеряк, обращаясь не столько к Нечаеву, сколько к мальчишке, проявлявшему нетерпение. — Магазины когда еще откроются!..
— Если задержитесь, то позвоните, товарищ капитан–лейтенант, — сказал Нечаев. — В передней висит телефон. Номер я запомнил: двадцать четыре триста…
— Мог не запоминать, — перебил его Мещеряк с усмешкой. — Он не работает. Его уже давно отключили.
— Виноват…
— Ладно, чего там… — примирительно произнес Мещеряк. Он уже жалел о том, что не удержался от усмешки. Нашел перед кем кичиться своей наблюдательностью и предусмотрительностью! Нечаев просто не догадался снять трубку… Еще хорошо, что он не обидчив. А глаз у него острый и память крепкая — запомнил номер… Ему бы похвалить за это Нечаева, а он…
Свою досаду он выместил на Егоркине, который подвернулся ему под руку. Еще долго ждать?..
— Машина готова, товарищ капитан–лейтенант, — лихо отрапортовал Егоркин. Видно было, что по лестнице он взлетел одним махом: парень дышал шумно, весело, и морозные облачка пара отрывались от его побелевших губ.
По безлюдной площади гулял вьюжный ветер. Фасад Большого театра, знакомый Мещеряку по первому посещению Москвы, был неузнаваем. На его фронтоне не было чугунных коней. Верхушку театра завесили двумя декорациями: слева двухэтажный дом, а справа — роща. И это на немыслимой высоте!..
Утреннее морозное спокойствие столицы передалось и Мещеряку. Его нетерпение улеглось, а чувство досады, вызванное вынужденным бездействием, прошло. Теперь он шел к цели. Пусть медленно, осторожно, но продвигался вперед. Хорошо было уже то, что эту дорогу избрал он сам. Было бы куда хуже, если бы противнику удалось его толкнуть на ложный путь.
Немолодой батальонный комиссар, то и дело хватавшийся за телефонную трубку как за спасительную соломинку, со вздохом облегчения сплавил Мещеряка с рук на руки очкастому старшему политруку, который, как оказалось, «непосредственно» занимался комплектованием фронтовых бригад, и тот увлек его за собой в узкую пыльную комнатушку, заставленную книжными шкафами. Старший политрук, очевидно, сам был из актеров (Мещеряк догадался об этом по его веселому подвижному лицу), но, усевшись за письменный стол, постарался придать своей смешливой плутоватой физиономии затейника серьезное, должностное выражение и только тогда уже довольно сухо осведомился:
— Чем могу служить?
Зная, что сугубо штатские люди, которых война произвела в командиры, особенно любят прибегать к строгим, уставным выражениям, Мещеряк так же сухо и отрывисто, не вдаваясь в подробности, изложил суть дела.
Как, товарищ капитан прибыл с передовой для того, чтобы передать благодарность командования? Очень приятно… Старший политрук снял очки. В таком случае не будет ли капитан так добр, чтобы присесть к столу и, как говорится, зафиксировать это на бумаге. Что, это не его собственное мнение, а мнение командования? Тем лучше. У них есть книга отзывов. Они получают множество писем. Как, товарищ капитан не знает фамилий? Ну, это проще пареной репы…
Достав пухлую папку, старший политрук раскрыл ее и продиктовал:
— Горская Валентина Георгиевна, заслуженная артистка республики, меццо–сопрано… Братья Доброхотовы, Семен и Александр Павловичи, — партерная акробатика, пантомима, жонгляж… Это, надо вам знать, разносторонние мастера, которые пользуются неизменным успехом. Когда они изображают бесноватого фюрера и напыщенного дуче, можно надорвать животик… Ну, а четвертый — аккордеонист Иван Игнатьевич Бабушкин.
— Можно узнать их адреса? — спросил Мещеряк.
— Разумеется.
— Дело в том, что мне поручено вручить им подарки.
— Понимаю… — старший политрук кивнул.
— Они уехали так неожиданно, что мы не успели…
— Ничего, это дело поправимое, — снова кивнул старший политрук. — Можете не затрудняться, мы сами…
— Я хотел бы лично, — ответил Мещеряк. И пояснил: — Приказ…
Это слово, как и следовало ожидать, произвело на старшего политрука поистине магическое действие. Больше он не настаивал, не предлагал своих услуг. Назвав Мещеряку адреса, он сказал:
— Вам повезло, капитан. Завтра они опять выезжают на фронт, в действующую. К танкистам–гвардейцам…
Мещеряк напрягся.
— Горскую я, правда, еще не уломал, — не без сожаления сообщил старший политрук. — Что поделать, все знаменитости немного того… К вам она тоже, признаться, поехала без большой охоты. Отказывается петь на морозе, требует, чтобы ей создали условия… Ну, придется провести разъяснительную работу, не без того. Люди ее знают и любят. Все требуют: Горскую нам подавай. Популярность!..
— Набивает себе цену? — спросил Мещеряк.
— Где там! — старший политрук отмахнулся. — Я ей дал слово, что это последняя поездка. Между нами говоря, она ведь права. Певица должна беречь голос. Если хотите, это всенародное достояние. Талант — всегда редкость. Нет, нет, она не из трусливых… Как–то она выступала перед летчиками, когда начался налет, так, поверите, не сошла с грузовика, пока не допела арию… Осенью это было. Смелая женщина, решительная. Сынок у нее в армии. Был тяжело ранен под Смоленском. С тех пор она всегда норовит выступать в госпиталях. Стоит позвонить — сразу едет. А тут заартачилась…
— Вы ведь сами сказали, что не без оснований.
— Так–то оно так, но мы обязаны удовлетворить заявки, — ответил старший политрук.
— А остальные как?
— С ними никакой мороки, сознательный народ. А Бабушкин, тот совсем молодец. Сам напрашивается.
Мещеряк промолчал.
— Он, между нами говоря, немного того, заливает… — старший политрук прищелкнул пальцами по шее. — Грешен, батюшка. Знает, что на фронте ему перепадет… Актеров у нас хорошо встречают.
— Это точно, — сказал Мещеряк.
Бабушкин Иван Игнатьевич, аккордеонист… Его Мещеряк решил оставить напоследок. Бабушкин, Бабушкин…
— Что вас еще интересует? — Старший политрук поправил очки. — Простите, но в одиннадцать у меня совещание…
Мещеряк попрощался.
Сигнал воздушной тревоги застиг Мещеряка возле Собачьей площадки в одном из тихих арбатских переулков, в котором жила Валентина Георгиевна Горская. На гранитном цоколе шестиэтажного дома были грубо намалеваны стрелка и надпись «Вход в бомбоубежище». Но Мещеряк, войдя в парадное, не стал спускаться в подвал, а поднялся по выщербленным мраморным ступенькам трехмаршевой лестницы на второй этаж. Если старший политрук был прав и актриса — женщина смелая, то искать ее в бомбоубежище не имело смысла.
Он не ошибся. Открыла ему сама Горская. В огромной квартире было холодно, и актриса куталась в полушалок. На ногах у нее были грубые валенки.
До этого Мещеряку не приходилось бывать в таких запущенных барских хоромах, сохранивших остатки былого позолоченного богатства, — с облупившимися лепными потолками, потускневшей медью дверных ручек и шпингалетов, с мраморными в трещинах подоконниками и каминами. Здесь все пахло даже не стариной, а старостью. На тусклом, давно не чищенном паркете какого–то затейливого узора стояла некогда изящная, легкая, но с годами рассохшаяся и отяжелевшая мебель красного дерева, обитая выцветшим шелком. Между двумя колоннами криво висела копия картины Айвазовского «Девятый вал» в тяжелой раме, а посреди гостиной, в которую Мещеряк вошел за хозяйкой, старчески горбился черный концертный рояль, заваленный нотами.
Все вещи, все предметы в этой квартире жили своей старческой жизнью, отдельной от жизни хозяйки дома. Вернее, даже не жили, а доживали свой век. Валентина Георгиевна, как знал Мещеряк, теперь редко бывала дома.
Он осмотрелся. На выцветших, от времени пожелтевших афишах и фотографиях, которыми были почти сплошь увешаны степы гостиной, Горская имела легкомысленный вид опереточной дивы. А перед Мещеряком сидела усталая немолодая женщина с морщинками–лучиками вокруг потускневшего скорбного рта, с худыми, безжизненными руками. Когда она уселась в кресло, к ней на колени взобрался облезлый ангорский кот.
Этот кот тоже был старым и, свернувшись клубком, тотчас закрыл закисшие глаза.
В гостиной установилась такая траурная тишина, что Мещеряк не сразу решился нарушить ее.
Перед встречей с другим человеком, а тем более перед важной встречей, каждый из нас обычно занят «словесными заготовками». Мы заранее придумываем вопросы и ответы, которые должны за ними последовать, стараемся взвесить все слова… И тем не менее почти всегда оказывается, что мы попадаем впросак. А все потому, что ни один человек не в силах решать за другого и предугадать до тонкостей ход событий. Ведь часто важны даже не сами слова, а интонации, жест… И обстановка. И душевное состояние. Мещеряку, разумеется, все это было известно. Но он был обыкновенным человеком и не всегда поступал так, как того требовал разум. Вот и сейчас… Из разговора со старшим политруком у него сложилось о Горской противоречивое мнение. Потом он решил, что это взбалмошная, избалованная женщина, падкая на аплодисменты и похвалу, и он, сам того не желая, перед встречей с нею настроился на игривый лад. Знаменитостям надо льстить, не так ли?.. А тем более женщинам, привыкшим к улыбкам, восторгу и цветам. Он даже подумал о том, не прикинуться ли ему поклонником ее таланта.