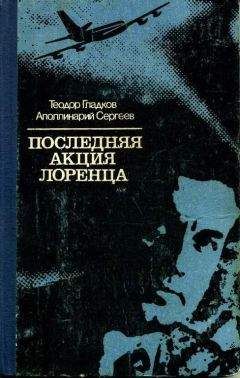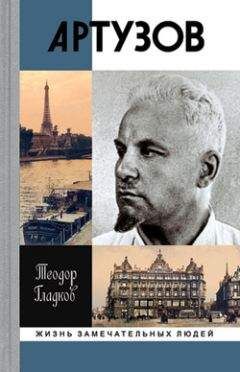— Не думайте, что все идет так уж гладко, — наконец ответил Визен. — Кое в чем наши специалисты столкнулись уже со значительными трудностями, о чем и доложили руководству. К какому выводу пришло последнее, я пока не знаю, но шесть месяцев, пожалуй, гарантирую.
— Что вам для этого потребуется? — спросил Ермолин, облегченно вздохнув про себя, но и взяв на заметку слова о трудностях.
— Желательна определенная направленность присылаемых вами материалов. Она и так правильна, но нуждается в некоторой корректировке. — Визен вынул из кармана сложенный вчетверо листок бумаги. — Здесь я набросал примерно, что и в какой последовательности вы могли бы выдавать связникам Лоренца. Очень сжато, конечно, но ваши специалисты разберутся, поскольку это лишь уточнения к их плану. Наконец, нам нужно договориться, на какой адрес и как писать вам.
Ермолин, не развертывая, спрятал листок в бумажник.
— Хорошо, доктор. Когда вы должны уехать?
— Такси заказано на девять утра. Завтракать я буду от восьми до восьми тридцати. Встану в семь.
— Хорошо. Вы получите наш ответ еще до завтрака. Куда и как отвечать вам?
— Записано на том же листке. Да, вот еще что. Не исключено, что мне случится раз или два появиться в Москве транзитом. Знаете, как это бывает: час-другой на аэродроме без права выхода. Иногда и больше, если погода закапризничает.
— Понимаю... Вы получите и номер телефона.
Визен взглянул на часы.
— Уже одиннадцать. По вашим пуританским правилам нас сейчас попросят.
— Это точно, — подтвердил Ермолин. — Но для вас лично еще не все потеряно, в «Интуристе» есть ночной бар.
Визен махнул рукой.
— Нет уж. Я лучше посплю. В последние годы ночные бары меня уже не привлекают даже в Париже.
У входа в кабинку появился официант. Ермолин перехватил счет, уже протянутый Визену.
— Извините, доктор, но будем считать, что сегодня вы были моим личным гостем...
Подумаешь, доктор наук... Таких сегодня в стране за сорок тысяч. Есть уже чуть ли не двадцатилетние. Если бы все эти годы он работал так, как теперь, то имел бы нечто гораздо большее, чем ученые степени и почетные награды, — имя. Кто помнит, скольких и каких именно званий и дипломов удостоен Сергей Аркадьевич? Говорят просто: Осокин — и этого достаточно. На любом уровне и в любой стране это звучит в научно-технической среде так же просто и убедительно, как Горький — в литературе, Шостакович — в музыке или Чаплин — в кино. Даже в футболе есть такие имена: Яшин, Пеле...
Господи, на какую суету разбазаривал он свое время, способности, энергию! Чего ради? Потерял все, включая пусть не великое, но все же имя. А между тем несомненно, что впервые в жизни он близок к настоящему, большому успеху, который до сих пор ускользал от него как перо жар-птицы. Неужели для этого достижения нужно было сначала все так безжалостно искалечить? Лучше об этом не думать. Всплыли в памяти стихи поэтессы:
«Жизнь не удалась. Любовь не вышла... Потому стихи и удались».
Выходит, не с ним одним случалось такое.
Корицкому все удавалось теперь. В нем проснулись силы, о существовании которых он раньше и не подозревал. Сказать, что все давалось без труда, было бы неверно. Он работал, как никогда, много. Только в лаборатории часов до семи вечера, не считая того, что прихватывал допоздна дома. Но работалось легко. Даже анализ статистических данных, самая скучная и трудоемкая часть исследований, доставлял своеобразное удовольствие.
С непостижимой, пугающей прозорливостью Корицкий предвидел результаты каждого очередного эксперимента, безошибочно определял сущность проходящих процессов, уверенно намечал последующие шаги и возможные осложнения.
Работал он сразу в двух, взаимоисключающих, казалось бы, друг друга направлениях. Первым было то, которое, как он теперь твердо знал, должно было рано или поздно завести в окончательный безвыходный тупик. Порой он сам удивлялся, что не видел этого столько лет, а вот Осокин понял с самого начала. Однако, не бессмысленная, а очень даже нужная работа. Ее результатов ждали на Западе те, кто убил его Инну. В последнем, кстати, он был уверен твердо.
Однажды Михаил Семенович не выдержал и, зная, что не имеет права, все же спросил Кочергина:
— Анатолий Дмитриевич, что все-таки произошло с Котельниковой?
Тот посмотрел на него как-то странно, но не отмолчался, а сказал:
— Точно мы этого не знаем и, возможно, знать никогда не будем. Теоретически не отпал и вариант с несчастным случаем. Мы ведь лишены возможности проводить следствие на территории чужой страны.
— Но если ее убили, то почему? Разве она не была им нужна?
— Они вас разыскали. Видимо, в разговоре с кем-то там, на Западе, Котельникова незаметно для себя выдала достаточно информации, чтобы американская разведка могла выйти на вас уже без ее посредничества. Значит, она им уже не была нужна. Более того, своей настойчивостью она могла произвести на них впечатление человека опасного.
— Неужели этих соображений достаточно, чтобы убить человека?
Тут уж не выдержал Кочергин.
— А уязвленное самолюбие и цель наживы, по-вашему, достаточное основание, чтобы совершить то, на что пошли вы и Котельникова? — Он спохватился. — Извините, Михаил Семенович. Но вы же знаете: о покойных или ничего, или все. Вы сами пошли на этот разговор.
Корицкий молчал. Кочергин был прав и имел право, не официальное, а просто гражданское, говорить с ним без обиняков. А они... Что ж, они получат те данные, которых ждут. Изложенные аккуратно, добросовестно и до чрезвычайности убедительно. Это его, Корицкого, долг, если угодно, его отмщение.
Второе направление работы было осокинское, с некоторых пор, впрочем, ставшее его собственным делом, столько он вкладывал в него своих мыслей и сил. Когда Сергей Аркадьевич познакомился с результатами последних исследований, он с горечью сказал:
— Вам не обидно, Михаил Семенович? Я, к сожалению, далеко не молод. Вы за месяц сделали то, на что мне потребовалось бы полгода. Как же вы могли себе позволить... такое? С вашей-то головой?..
Корицкий отвернулся тогда к окну и вместо ответа только забарабанил нервно пальцами по стеклу. Ему нечего было сказать. Ну как он мог всерьез думать, что старик будет мешать ему из ревности к успеху или зависти к молодости? Не говоря уже о таком диком подозрении... С него все и началось.
Два человека в эти дни были рядом с Корицким. Помогали, поддерживали, главное — понимали. Светлана Осокина и Анатолий Кочергин.
Молодая женщина давно симпатизировала Корицкому. Она знала, что ее отец крупнейший специалист в своей области, что называется, с пеленок, но, как это часто бывает с близкими людьми, в повседневном общении утратила представление о подлинных масштабах его личности. Когда Светлана читала, слышала, что пишут или говорят об Осокине, ей казалось иногда, что речь идет о каком-то другом человеке, а не о том добродушном, заботливом папе, которого она видела ежедневно в тапках и халате. Идеалом же современного ученого — напористого, блестящего, смелого, остроумного — стал для нее, еще студентки пятого курса, пришедшей в лабораторию Корицкого на преддипломную практику, сам заведующий лабораторией.
Сказались определенным образом и сугубо личные обстоятельства. Тяжело пережив гибель своего первого любимого, а затем развод после неудачного замужества, Светлана весьма болезненно отнеслась к появлению в жизни Сергея Аркадьевича женщины — Юлии Николаевны Ларионовой. С эгоизмом молодости она не захотела посчитаться с правом отца на личную жизнь, хотя и продолжала дома по-прежнему заботиться о нем, любовно и... ревниво. С особым усердием выполняя свои обязанности младшего научного сотрудника в лаборатории Корицкого, Светлана как бы выражала тем самым свой невысказанный протест Осокину-ученому.
В последнее время — Светлана это уловила одной из первых — в лаборатории произошли большие перемены, и к лучшему. Это касалось всего: ритма работы, заинтересованности сотрудников в результатах исследований, даже характера шефа. Он стал куда более земным, чем раньше, и людям это нравилось.
Иногда, впрочем, Анатолию Кочергину казалось, судя по некоторым репликам, что у Светланы Осокиной порой возникали недоумения в связи с частыми встречами с ним у себя дома, поскольку только в квартире на Ленинском проспекте и мог капитан встречаться с Сергеем Аркадьевичем, когда того требовали обстоятельства. Однако поручиться за это он не мог, некоторая ироничность и резкость в суждениях, способные чувствительно задеть за живое, вообще были свойственны дочери ученого.
Кочергин видел, что Светлана умна, хорошо и разносторонне образована. Он понимал также, что молодую женщину, порвавшую с мужем при наличии ребенка, вряд ли можно признать довольной тем, как сложилась ее личная жизнь. Он знал, что женщины с такой судьбой бывают весьма проницательны и легко ранимы, зачастую мнительны, даже подозрительны. У него не было пока ни малейших оснований опасаться, что он плохо исполняет свою роль стажера, но разумом и интуицией молодой человек чувствовал, что если кто-то и догадывается об его игре, так это Светлана Осокина. Так получилось, что более других Кочергин вынужден был опасаться человека, который чем-то стал небезразличен ему с первой встречи. Анатолий не пытался даже заговаривать со Светланой Сергеевной о чем-либо, кроме как о делах, и то лишь в случае самой крайней необходимости. И трудно сказать, что более предостерегало его: профессиональная осторожность или обыкновенная застенчивость. Раньше, правда, Анатолий себя слишком уж застенчивым в отношениях с женщинами не считал, хотя и не отличался особой бойкостью.