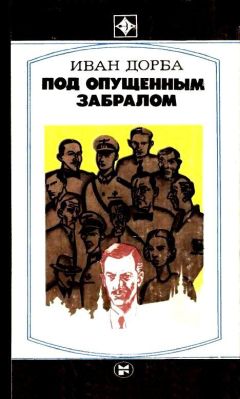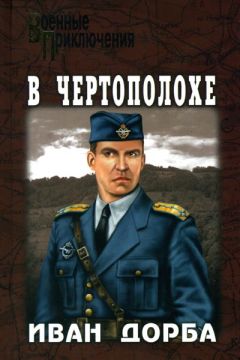— Все ясно. В связи с разгромом немцев под Москвой Байдалаков впал в панический страх. А профессор Ильин, сами знаете, фигура в эмиграции видная, ярко выраженный англоман и наверняка связан с Интеллидженс Сервис и Си-ай-си. Зная лавирующую позицию Георгиевского, они там, в Берлине, на всякий пожарный случай хотят закинуть «первую удочку», поэтому и денег столько ему отвалили.
— А откуда у них деньги? Фашисты вроде не так уж щедры — заинтересовалась Латавра.
— Крупные суммы поступают из Смоленска от Околова: золото, драгоценности, картины, безделушки.
— Грабит население?
— Конечно! Посылает добрую часть в Варшаву Вюрглеру, а тот, в свою очередь, не оставаясь сам в обиде, шлет в Берлин Байдалакову и всей его шатии. Драгоценности храним как неприкосновенный запас, а деньги тратим, — отрапортовал Граков.
— Неужели один Околов содержит всю организацию в Берлине? — удивилась Латавра.
— Не совсем. Занялись спекуляцией. Из Парижа по нелегальным каналам переправляются кофе и духи — этим занимаются Поремский и еще кто-то. Из Праги привозят шерсть и хлопчатобумажные ткани. Все это перепродается в Берлине.
— А почему в шифровке они интересуются «Охранным корпусом»? Не проще ли было вам об этом сказать?
— Думаю, это надо понимать так: «Успешно ли работает разведка НТС в "Охранном корпусе"?…» Они ведь все носятся со своей «третьей силой». Мы это выясним, расшифровав ответ Георгиевского.
— Ну ладно, поглядим. А как с вашей предстоящей поездкой в Советский Союз в соответствии с заданием «Радо»? — Латавра внимательно, с нескрываемым любопытством наблюдала за каждым жестом Гракова.
— Под Берлином, в деревеньке Цитенгорст, организован особый лагерь для военнопленных, наиболее пригодных для разведывательной и политической подготовки и засылки в оккупированные области в качестве немецких пособников в административные, хозяйственные, пропагандистские и прочие немецкие органы, а также дли шпионско-диверсионной работы в тылах Красной армии. — Граков вынул трубку, набил ее. — Вы разрешите? Подготовкой ведают Поремский с компанией, а засылку осуществляют Шитц, Редлих и отныне ваш позорный слуга. Впрочем, Редлих недавно уехал.
— Меня интересует программа, которую вы проводите, — пояснила Латавра.
— Я ездил дважды в Гамбург и встречался там не то с «Радо», не то с его представителем. Рассказал ему все наши берлинские дела и ваше, Алексей Алексеевич, предложение. Его заинтересовал лагерь советских военнопленных Цитенгорст и большой лагерь за Кепенигом, откуда мы переводим военнопленных, согласившихся работать с немцами. «Радо» предложил мне связаться в том лагере с одним человеком, который порекомендует мне «выбрать» подходящих людей для Цитенгорста. Я так и сделал, взяв пятнадцать военнопленных. Часть из них поедет со мной, а остальных пристроил к Редлиху. Первая группа с одним нашим человеком и тремя сволочами должна пересечь границу за Витебском. Вторая группа прибудет в Локоть для переброски к партизанам. Там рядом брянские леса, царство партизан. Вот немцы и хотят иметь среди них своих людей. Ха-ха-ха! Эти четверо — настоящие ребята, их «дядя Назар» особенно рекомендовал.
— А как же вы нашли в огромном лагере под Кепенигом этого «дядю Назара»? — Латавра пристально смотрела на Гракова.
— По описанию: одноглазый и хромает на левую ногу. Живет в бараке номер семьдесят один, член подпольного комитета лагеря. Они там всех знают, кто чем дышит. Удивительные люди, голодные, оборванные, холодные, в чем только душа держится?! Помочь им ничем нельзя.
— «Дядя Назар» — это бывший офицер нашей армии? Так? — спросила Латавра и заметила: — Жаль, конечно, пленных, но они сами виноваты…
— Вы меня простите, Латавра, нельзя объявлять «врагами народа» людей, которые по неопытности своих военачальников попали в плен, — возбужденно бросил Граков.
— Не говорите глупостей! — вспылила Латавра. — Как смеете вы осуждать действия товарища Сталина!
— Он не осуждает, — положив ей руку на плечо, мягко произнес Хованский. — У себя в кругу мы привыкли обсуждать все, что угодно. А вам, Александр, скажу: не спешите с выводами. Пленных немцы берут все меньше и меньше.
— Спасибо, что Красная армия и ее командиры научились воевать, — не сдавался Граков, сердито попыхивая трубкой.
— Мы тоже Красная армия, — улыбнулся Алексей, — и тоже кое-чему научились. «Лучше смерть, чем иноземное иго!» — некогда сказал Кузьма Минин, а старая русская пословица гласит: «Русский терпелив до зачина».
— Побываю на Руси, все своими глазами увижу, а покуда отправлюсь к Георгиевскому, и в обратный путь с вашего, Алексей Алексеевич, благословения. — Граков начал прощаться. Потом хлопнул себя ладонью по лбу и воскликнул: — Господи! Совсем из ума вон, я при ребятах не хотел открывать. Объявился Чегодов! Приезжал Вюрглер из Варшавы в Берлин и рассказывал, будто Олег сидел в черновицкой тюрьме, бежал оттуда, скрывался, потом пришел во Львов, явился к Брандту. Тот втянул его в какое-то грязное дело, как я понял, быть «подсадной уткой» в тюрьме, чтобы выведать сообщников какого-то видного партизана. А кончилось дело тем, что партизан сбежал, скрылся из Львова и Олег,чтобы оказаться в Витебске. Он ездил в Смоленск к Околову, потом они вместе отправились в Кишинев за спрятанной там типографией. Фантастика какая-то! Брандт ему, как я понял, не очень доверяет, но за Чегодова заступился Околов. К тому же обнаружилось, что в черновицкой тюрьме Олег сидел вместе с Гошкой Кабановым… Я получил шифровку от Лесика Денисенко. Пишет: «Мы с Олегом не бездельничаем!»
Хованский многозначительно посмотрел на Латавру. Его глаза, казалось, спрашивали: «Ну, что скажешь на это? Кто был прав?»
Граков ушел. Заперев за ним дверь, Алексей вернулся в кабинет. Латавра сидела в кресле и задумчиво смотрела в окно, на улицу, где по-прежнему бесновалась метель. Повернувшись к нему, она тихо, с грустью прошептала:
— Я попала в иной мир. Мне до конца вы все не понятны, вы так далеки от нашей действительности, у вас своя, выдуманная Россия. Тяжело вам будет у нас… Даже тебе, мой друг, будет поначалу непросто, ты ведь тоже привык к другому укладу жизни, к людям с чуждой для нас психологией…
Глядя в окно на мечущиеся белые хлопья, Хованский заговорил, подчеркивая каждое слово:
— Каждому разумному и мыслящему существу судьба подарила три якоря спасения — Родину, семью и дар улавливать звуки мира и связь своего «я» с человечеством… Ты, моя любимая, мой второй, надежный якорь спасения. Мне не страшны теперь никакие бури. Им всем нужно помочь. — Он взял ее за руку. — Помочь, потому что мы чекисты! А чекист — прежде всего человек! И если ты хочешь оказать влияние на других людей, ты должна оставаться человеком. Трагедия эмигрантов в том, что у них один якорь спасения — Родина, но и у этого якоря цепи проржавели.
— Остались одни «березки да российские широкие просторы», — грустно сказала Латавра. — Но Чегодова следует проверить!
— Проверим, — согласился Алексей, но заговорил о другом: — Конечно, этим людям до конца не понять, не пустить глубокие корни в народную толщу. Даже Алексею Толстому, махине, талантищу, сколько потребовалось чуткости и ума, прежде чем найти правильный путь и загореться пафосом созидания нового государства, этой неоспоримой притягательной силой идей социализма. Недаром свой лучший роман он назвал «Хождение по мукам». А вот Куприну уже не хватило времени найти себя… А Федор Иванович Шаляпин? Как быть с ним?
— Шаляпин все еще сводит счеты с большевиками, — кивнула Латавра. — Великий талант, но алчный самодур!
— Обижен на советскую власть за то, что реквизировала у него коллекцию холодного оружия, боится, что если придется петь в Большом театре «Фауста», то ему не подадут во втором акте настоящего жареного поросенка.
— Поросенка? — удивилась Латавра.
— Помнишь, когда на пиру Мефистофель начинает петь «На земле весь род людской…», вносят на блюде бутафорского поросенка; так вот, Федор Иванович, подписывая контракт, вставляет требование подавать ему настоящего жареного поросенка и в случае невыполнения этого пункта контракта требует неустойку. Таковы причуды гения.
— Причуды гения… — как эхо повторила Латавра.
— Ты сейчас думаешь о Сталине, — угадал Алексей. — После своего пятидесятилетнего юбилея Владимир Ильич говорил: «…наша партия может теперь, пожалуй, попасть в очень опасное положение, — именно в положение человека, который зазнался. Это положение довольно глупое, позорное, смешное». Вот так-то, моя дорогая!
— Я грузинка и горжусь тем, что с именем Сталина идут в бой, ложатся под амбразуры, что его имя гремит на весь мир! Горжусь тем, что советский народ уже переломил ход истории нашей страны. Но для победы, Алеша, нужны силы каждого из нас. Страшна измена, потому… Семь раз перепроверь, Чегодов может всех вас провалить…