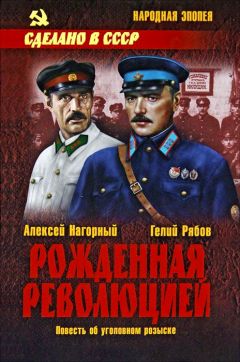Марин знал, о чем шла речь. Подробная запись об этом имелась в тетради Юровского. Он тут же поймал себя на мысли, что правильно в свое время отнесся к поведению и мнимой откровенности своего бывшего друга. Крупенский об этой части екатеринбургских событий умолчал, а дело было в следующем. Когда Юровский пришел после исполнения приговора на первый этаж в комнату, ту, в которой были расстреляны Романовы, около двери в кладовую он увидел надпись, нацарапанную карандашом. Она была сделана там, где упала после выстрела «сенная девушка» Анна Демидова.
— Обои в этой комнате полосатые, под ситчик, — медленно, словно вспоминая, начал Марин. — Справа под единственным зарешеченным окном кто–то нацарапал по–немецки: «Валтазар вард ин зельбигер нахт фон зайн кнехтен умгебрахт». Это двадцать первая строфа стихотворения Гейне «Валтазар», — продолжал Марин. — Я переведу: «В эту самую ночь Валтазар был убит своими холопами».
— Кто же это написал? — ошеломленно спросил поручик. Было видно, что рассказ Марина потряс его, да и всех остальных тоже.
— Этого не смогли выяснить ни чекисты, ни мы, — сказал Марин.
— Я помню это стихотворение по–русски, — очень тихо сказала Лохвицкая. — Вот оно: «Мгновенно замер безумный смех и мертвый холод объял всех, и вдруг, о ужас, на стене рука является в огне и пишет. Буквы под перстом горят одна за другой огнем. И ни единый маг не смог истолковать тех пламенных строк. Ив ту же ночь не взошла заря — рабы зарезали царя». — Лохвицкая встала, подняла бокал. — Господа, в этом стихотворении мистическая правда. Были буквы на стене, было предостережение, не было только людей около государя, которые бы могли истолковать его. Я бы так хотела, чтобы моя Россия стала иной, чтобы правили ею достойные люди и чтобы опирались они на достойных людей! — Она выпила залпом и швырнула бокал через левое плечо.
Он разлетелся на куски со звоном. Офицеры возбужденно обсуждали услышанное, им уже было не до Марина, а он молча уставился в тарелку и думал, думал о том, что сейчас его спас Юровский…
Его размышления прервал поручик.
Пьяно всхлипывая, он влез на стол и заорал на весь зал:
— А я не верю, не верю, и все! Император жив, и мы еще встанем под его знамена! — и, подавив рыдание, запел срывающимся голосом: — У нас у всех одно желанье: скорее добраться до Москвы, увидеть вновь коронованье, спеть у Кремля аллаверды!
Офицеры дружно подхватили знаменитый дроздовский марш…
Ленин просматривал утреннюю почту. Вошла Фотиева и положила на край письменного стола дешифрант телеграммы Белобородова с Кубани: «Врангель высадил десант и ставит своей целью отрезать от республики один из самых плодородных, районов страны».
«И конечно же, вызвать там восстание против Советской власти, — подумал Ленин. — И тем самым затянуть кампанию до зимы и на зиму, и тогда…»
Ленин вызвал Дзержинского. Тот приехал через двадцать минут и молча выслушал неприятную новость.
— Ваше мнение? — сухо спросил Ленин. Эта сухость была вызвана волнением, которое в таких случаях Ленин всегда старательно сдерживал, и проявлялось оно только вот в таких сухих, отрывистых фразах.
— Думаю, что это громадная опасность, — сказал Дзержинский.
— Опасность? — переспросил Ленин. — Нет, это не опасность, это крах, если вам угодно знать. Восстание на Кубани теперь — это крах, Феликс Эдмундович. Давайте не будем страусами. Требую, чтобы вы немедленно, экстренно приняли самые неотложные меры. Нельзя допустить восстания. Не жалейте ни сил, ни средств. Если нужно, подключите военных.
— Я понял, Владимир Ильич.
— Вы знаете, как обстоят дела в Крыму?
— Да. Врангель предпринял неожиданное наступление па Мариуполь,
— Неожиданное? Нет, «неожиданное» наступление — это оправдание плохих военных. Следовало ожидать. Врангель — искусный стратег, он окончил Академию генерального штаба, и Кутепов совсем неплохой командир. Они умеют искусно маневрировать, а у некоторых наших военачальников закружилась голова: как же, «от сохи» и так изрядно побили образованных царских генералов? Плохо, очень плохо! Голова всегда должна быть холодной, тогда не будет «неожиданных» наступлений, не будет тысяч погибших зря. И еще вот что хотел я у вас спросить: что сделано по письму харьковских чекистов? По делу этого мерзавца? Рюн, кажется, так?
— Рюна больше нет, Владимир Ильич. С ним покончено.
— Товарищ, который выполнял задание, вернулся?
— Он в штабе Врангеля, Владимир Ильич.
— Вот как… Его необходимо представить к награде. У него есть семья?
— Только тетка здесь, в Москве.
— Позвоните ей, успокойте, скажите, что у него все в полном и несомненном порядке.
— Хорошо, Владимир Ильич, только несколько позже, — улыбнулся Дзержинский.
С Приморского бульвара доносился вальс, его играл военный оркестр. На рейде мерцали огни кораблей, накатывая на берег, серебристо высверкивали волны. Марин бросил в воду плоскую гальку и зачарованно считал:
— Раз, два, три… Загадал, сколько нам жить, — повернулся он к Зинаиде Павловне.
— Это не кукушка, — грустно сказала она. — Та и сто лет накуковать может, а вы больше семи всплесков не добьетесь, я знаю.
— Семь всплесков на одну жизнь — это прекрасно, — улыбнулся Марин. — Это редко бывает. Знаете, я думаю, что и один всплеск — чудо!
Кончилась еще одна проверка. Что они придумают в следующий раз? И эта женщина, эта странная женщина… такая нежная, такая чужая… Она ведь никогда не изменит своим убеждениям. Никакая любовь, страсть, одержимая, всепоглощающая, не столкнет ее с однажды избранного пути, тем более теперь, когда ее корабль тонет. Нет, она этот корабль не покинет и погибнет вместе с ним. Но тогда бог с ней, тогда обыграть ее, она ведь сильный равноправный партнер, она–то играет? Или нет? Обыграть ее, и пусть мертвые погребают своих мертвецов…
Он спросил себя: «А ты? Ты изменил бы ради любви, ради сыновьего долга? Ради того, чтобы спасти жизнь дорогого и близкого человека? Нет, не изменил бы никогда. Отдал бы свою жизнь, чтобы спасти, избавить, но и только. Тогда почему требовать этого от нее? Потому, что правда у него. Нет, еще не сама правда, а только стремление к ней, беззаветный и сжигающий порыв. Если его сохранить на долгие годы, правда придет, восторжествует. Разве ради этого не стоит отдать жизнь, сгореть и увлечь за собой других, даже из стана врагов? Ведь эти враги — такие же русские люди, родившиеся здесь, на этих зеленых полях, под этими белоствольными деревьями, под этим грустным ситцевым небом… Им надо только объяснить, открыть глаза, доказать, и они поймут: ведь уже миллионы и миллионы поняли. Должны понять и эти, последние. Их ведь только тысячи…
— Наши вот–вот возьмут Мариуполь, — сказала Зинаида Павловна. — Может быть, еще и повернется все?
— Может быть.
— Пленных много. Контрразведка свирепствует: расстрелы, расстрелы… В горах банды Орлова и Макарова, а ведь оба они офицеры, дворяне, люди чести, казалось бы… Я ничего не понимаю, перестаю понимать. Красные гуманнее нас? Как вы думаете?
— Думаю, что да.
— Почему?
— Потому что их сто пятьдесят миллионов. Они чувствуют свою неистощимую силу. Сильный всегда Добрее.
— И справедливее?
— Они справедливы. Не всегда, конечно… Ошибаются подчас, жестоко, с кровью, но это издержки, и они пройдут. Красные — хозяева России. Этим сказано все.
— А нашим… навсегда предстоит покинуть родину… И они зверствуют, теряют человеческое лицо, — задумчиво сказала Зинаида Павловна.
— Наверное, вы правы.
— Я подумала, что в наших рядах все меньше и меньше порядочных людей, — она швырнула в воду камень, он запрыгал по склону неторопливо накатывающих волн: один, два, три, четыре всплеска.
— Вам предстоит долгая и счастливая жизнь, — улыбнулся Марин.
Но Зинаида Павловна отрицательно покачала головой:
— Вы думаете, я фанатичка? Палач? На моих руках нет крови.
— То есть… как? — опешил Марин. — Зинаида Павловна, у меня хорошая память, к сожалению…
— Да, я это сделала, скомандовала «Пли!»… Но ведь это нужно было вам, Владимир Александрович. — Она смотрела ему в глаза, тоскливо, обреченно, словно собака, ожидающая выстрела из хозяйского ружья… Не по дичи, по себе самой.
Выполняя приказ Марина, Коханый познакомился с начальником складской команды фельдфебелем Загоруйко. Когда он пригласил Загоруйко посидеть в распивочной на Приморском бульваре, тот сказал, что Коханый должен уважить и двух унтер–офицеров, пригласить на выпивку их тоже.
Коханый обрадовался. Это как нельзя лучше соответствовало его планам. Не посоветовавшись с Зотовым, он явился на встречу и повел всю компанию в «Три поцелуя». Там подавали пиво и вяленую салаку. Выпили раз, другой, третий. Коханому очень уж не хотелось глотать за его превосходительство главнокомандующего, но унтеры оказались дубовые, старого закала. Пили они, что называется, в три горла. Коханый успевал только бутылки считать. Пили, но языков не развязывали, отмалчивались и отшучивались. И так уж вышло, что Коханый напился первым и первым развязал язык. Он и спросил–то всего ничего: «Когда завтра заступаете на посты», но этого оказалось вполне достаточно. Один из унтеров, Еремеев, секретный агент контрразведки, состоял на связи у полковника Скуратова. Уже через полчаса после того, как новые друзья, проревев последний раз «Распрягайте, хлопцы, коней», разошлись — Еремеев сидел на явочной квартире контрразведки и докладывал Скуратову о происшедшем разговоре. Скуратов для порядка выругал агента за то, что тот поднял его среди ночи с постели, но потом задумался. Чутье подсказывало ему, опытному розыскнику, что за этой на первый взгляд невинной выпивкой кроется, возможно, рука Москвы или, во всяком случае, местного областкома, пусть разгромленного, расстрелянного, но все еще дающего о себе знать, тем более что речь шла об огромных материальных ценностях. Это Скуратов понимал хорошо. Отпустив агента, он пошел в «Кист». Климович еще не спал. Сидел в своем кабинете и читал Плутарха.


![Алексей Нагорный - Повесть об уголовном розыске [Рожденная революцией]](https://cdn.my-library.info/books/193625/193625.jpg)