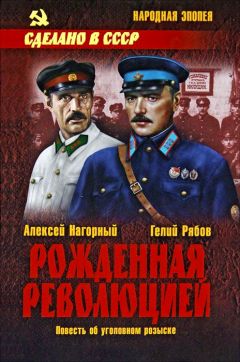Коханый прижался спиной к стене, закрылся руками.
— Говорить будешь? — едва слышно спросил Скуратов. Его трясло.
Коханый молча начал кивать, быстро–быстро, словно у него начинался припадок эпилепсии.
— Возьми его, — распорядился Скуратов. — Доставь в особняк. Я еду следом. Нет, сначала в «Кист», мне умыться надо и пообедать и отдохнуть, а он никуда не денется.
Фельдфебель взял Коханого за плечо и вывел из комнаты. Скуратов обвел ее взглядом в последний раз, потом приказал солдатам:
— Трупы — в авто, двери опечатать, оставить караул. Дождетесь, пока уйдет мадам.
Скуратов подошел к буфету, открыл дверцу. Марину показалось, что контрразведчик хорошо его видит.
Было мгновение, когда Марину снова захотелось опрокинуть буфет и разом покончить со всем, но он сдержался, а Скуратов наполнил рюмку и жадно выпил. Повернулся, чтобы уйти, и увидел Лохвицкую. Она стояла на пороге без кровинки в лице.
— Мадам, — поклонился Скуратов. — Вы со мной?
— Я еще не все просмотрела, — она обвела глазами комнату. — Послушайте, что вы натворили? Это же не работа…
— А что это?
— Не знаю. Три покойника и ни одного слова.
— Ничего, Коханый жив и заговорит… Я отдохну, наберусь сил и все разом, как это? Ком–пен–си–рую! Да?
— Да, — кивнула она. — Я доложу барону. Вас надобно вывести в расход. Чем скорее — тем лучше.
— Ба–а–ро–ну? — протянул он, — Ха! Три раза «ха»! Барону не до этих сантиментов! Расстреливали, расстреливаем и будем расстреливать! Вам не нравится? Тогда идите в офицерский публичный дом. Нет, нет, нет, заведывающей, за–ве–дыва–ющей! Честь имею! — он щелкнул каблуками и вышел.
Лохвицкая вернулась в библиотеку, снова начала просматривать книги. Какой–то час назад их держал в руках хозяин магазина, как его? Акодис, кажется. Лежит теперь в углу, в крови, лицо — кровавое месиво. И этот чекист из Харькова, сколько раз приводил и уводил он из камеры Крупенского, симпатичный, молодой — тоже лежит в другом углу, китель набряк от крови… Набух… Набряк. Станут класть в гроб, не снимут, засохнет все, заскорузнет. Ах, чепуха какая. Да кто же его станет класть в гроб? Зачем? Зароют где–нибудь за оградой кладбища — вот и все, а то и того проще — сбросят в ущелье или в яму какую–нибудь, даже веток сверху не будет, красных осенних веток, как па той могиле, на той… когда Крупенский не стал стрелять. Потом она пыталась убедить себя, что ничего особенного не произошло. Так… обыденщина: взяли конспиративную квартиру красных, перестреляли всех — велика ли беда. Что, красные поступили бы иначе? Нет! Так же беспощадно расправились бы и были бы правы. Гражданская война. Как это говорил Крупенский: «Нет победителей и нет побежденных, кто–то должен исчезнуть», — да ведь он и еще говорил: «Красные сильнее и, значит, добрее, потому что сильный всегда добрый». Может быть, арестовав ее в Харькове, например, при совершенно аналогичных обстоятельствах, Зотов и не убил бы ее или любого другого сотрудника белой контрразведки? И она вдруг отчетливо и до боли поняла, с ужасом и отчаянием, страшно было признаться самой себе, но она призналась: нет, не убил бы ее Зотов и другие не убили бы. Разве что потом, по приговору суда, а так? Самосудом? Нет! Никогда! Правда же: сильнее они и добрее.
— Я камин затоплю, барыня, — прервал ее мысли солдат. — Желаете?
— Желаю, — машинально ответила она. — Холодно мне, братец, затопи.
Солдат натаскал дров, вспыхнуло веселое пламя, она протянула руки к огню, пытаясь согреться, но не могла. Ее била дрожь.
— Скажи, братец, почему ты служишь?
— То есть как? — вытаращил глаза солдат. — Мобилизованные мы, еще с 16–го.
— Я не о том. Армия у нас добровольческая. Тебе, как старослужащему, никто бы и не препятствовал уйти, а ты не уходишь.
— Нельзя нам.
— Почему? Хочешь победы белому движению?
— Эх, барыня, ваше благородие, — вздохнул солдат. — Да я вам так скажу: белые, красные — нам всё едино. Мы служим. Хозяина только паршивая собака меняет, а мне и выгода к тому ж… Какая? А мы из Твери. У нас там мастеровщина. Так я смекнул: накоплю деньжонок, перепадает другой раз — не секрет, вернусь в родные Палестины и питейное заведение открою, с бабами, чтобы чулки раздевали. Э–эх, попрет мастеровщина. С тощих да ледащих своих жен да на кисленькое, копейка к копейке — я в люди выйду. Вот она, какой идеял у меня.
— Так ты идейный?
— А как же? Одобряете?
— А не мало ты хочешь?
— Мало? Не–е, мы свое место знаем. Красные как? Всех уравнять хотят! Пустое дело. От бога положено: сначала бог, потом царь, потом — псарь. Никому этого не поломать.
— Ладно, иди, идейный борец, — она это сказала без всякой иронии, очень серьезно.
Солдат ушел, и она снова подошла к полкам. Странное дело: нужная книга лежала на самом видном месте, над томами словаря Брокгауза и Эфрона, она сняла ее с полки и стряхнула пыль, села к столу, положила перед собой. Она не открывала ее, медлила, вряд ли она и сама бы смогла объяснить почему: ее томило какое–то неясное предчувствие, неуловимое ощущение надвигающейся катастрофы, которая покончит разом со всем, все похоронит, перекрестит, уничтожит…
«Чего я боюсь? — думала она. — В чем не хочу себе признаться? Этот человек дорог мне и нужен. Я люблю его. Жизнь без него потеряна для меня навсегда. Пусть так. Не этих мыслей я пугаюсь. Нет. Я чувствую, как уходит из–под ног земля. Делается темно в глазах, как только я начинаю думать о том, что поиск этой книги затеян недаром, что на фотографии в ней запечатлен Крупенский, только… только не этот Крупенский. И в этом, наконец, нужно отдать себе полный и ясный отчет».
Откуда–то из глубины дома донесся грохот, и почти сразу же на пороге столовой появился Марин. Он был бледен и спокоен. Увидев Лохвицкую, улыбнулся:
— Здравствуйте, Зинаида Павловна.
— Я знала, — кивнула она. — Я знала, что вы здесь, в доме.
— В самом деле? — бодро спросил Марин. — Почему же вы не присоединили меня к тем… кто валяется в подсобке? Вы видели?
— Оставьте, Владимир Александрович, или как вас там… — сказала она глухо. — Поклянитесь, что в этой проклятой книге вы, и я вам поверю, и пусть все идет, как идет, до конца.
— И вы бросите книгу в камин?
— Да!
Он подошел к столу, сел напротив:
— Зинаида Павловна, в этой книге Крупенский, а моя фамилия Марин, Сергей Георгиевич. Я из контрразведки ВЧК.
— Боже мой! Боже мой! — произнесла она едва слышно. — И вы так об этом говорите. Так говорите…
— Откройте 316–ю страницу.
— Нет!
— Тогда объясните, чего вы–то боитесь? Меня?
— Нет, я боюсь не вас. Я боюсь за вас и за себя тоже. Вот так. Я совсем не понимаю, на что вы надеетесь. Логики нет, здравый смысл отсутствует. Вы уже мертвы. Как те… Выслушайте меня.
— Говорите…
— Только сразу должно быть ясно: что бы я ни думала, что бы ни чувствовала, у меня перед родиной долг есть, понимаете? Я хочу сократить этот разговор до минимума, Владимир… Сергей Георгиевич. У вас есть только один выход.
— Сдаться?
— Убить меня. Сейчас. Здесь. Я не окажу сопротивления. Убейте и уходите.
— А если нет?
— Я вас арестую.
— И Скуратов переломает мне все кости. Что ж, если вам так легче…
— Что вы хотите сказать? — перебила она, морщась, словно от боли. — Говорите быстрее.
— Я хотел вспомнить кое о чем, кое–что уточнить. Вы не торопите меня. Давайте во всем разберемся спокойно. Слушайте: там, в камере, когда я назвал ваш псевдоним «Викторов», вы сразу и безошибочно поняли, что я просто–напросто угадал, вы поняли, что я не Крупенский, вы убедились в этом, когда я позволил вам расстрелять Рюна, этого негодяя, врага революции, и вы знали, что, расстреливая его, вы исполняете не мой и не свой приговор.
— Чей же?
— Советской власти. Наши намерения совпадали в тот момент, вот и все. А когда я отказался убить Воронкова и рабочих и не отдал их Скуратову на повторный допрос, вы и тут все правильно поняли. Вы поняли, что смерть для этих людей — избавление. Вы сказали потом: «Я их расстреляла, потому что это нужно было вам».
Она долго молчала, потом произнесла тихо и обреченно:
— У меня нет выхода. Уходите.
— Об одном прошу: не рубите сплеча, — сказал Марин, — не рубите… Вы причините мне огромную боль.
— Боль? Нет! Вы просто боитесь, что я вас выдам.
— Я люблю вас. — Он сказал эти слова и понял, что покатился в пропасть, из которой нет возврата. Но эти слова томили его, жгли. Он не мог их не сказать. Любовь никогда не перестает, ни–ког–да! Пророчества прекратятся, и языки… умолкнут, и знания упразднятся, а любовь пребудет вовеки. Он сказал эти три слова, и ему стало легко. Что бы ни произошло теперь, что бы ни случилось в его жизни — совершилось главное, совершилось то, ради чего жив человек: пришло счастье. Короткое, без прошлого, без будущего — так, миг единый…


![Алексей Нагорный - Повесть об уголовном розыске [Рожденная революцией]](https://cdn.my-library.info/books/193625/193625.jpg)