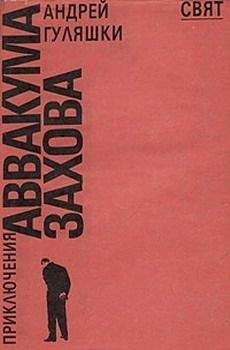— Напротив! Он рассмеялся.
— О, добрейший мой Анастасий! А когда ты прибыл?
Я ответил довольно сухо. Мне не понравились покровительственные нотки в его голосе. Ведь он не намного старше меня!
— Ты остановился в гостинице «Болгария» — не так ли? Я разинул рот от удивления.
— Но ведь это совсем прозрачная тайна! — усмехнулся Аввакум. — Почему скрываешь? Ты приехал в восемь, а сейчас без четверти десять. За час сорок пять минут даже самый проворный человек не сможет помыться, побриться и подъехать к музею, если только не остановился где-то поблизости.
— Поблизости есть и другие гостиницы, — ехидно заметил я.
— Но ты остановился именно в «Болгарии». В «Балкане» и «Славянской беседе» нет свободных номеров. Вчера вечером из Варшавы прибыл профессор Витезлав Мах, археолог. Так как мне предоставили честь устраивать его, я звонил и в «Балкан» и в «Славянскую беседу», но свободные номера оказались только в «Болгарии». Ты принимал душ — это видно по твоим волосам: они еще влажные. Ты брился не в парикмахерской, а безопасной бритвой — на подбородке у тебя осталось несколько предательских волосков. Когда бреешься безопасной, это часто случается. Комната хорошая?
— Отличная! — воскликнул я и покраснел.
Аввакум посмотрел на меня, помолчал и покачал головой.
— Управляющий — мой знакомый. — сказал он. — Я попрошу его при первой же возможности перевести тебя в солнечный номер.
На это мне нечего было сказать. Я поблагодарил его и стал разглядывать мастерскую.
Затем Аввакум завел разговор о Момчилове, вспомнил наших старых знакомых, расспросил о работе на новом участке. Но говорил он без души, словно через силу. Про Балабаницу, например, даже словом не обмолвился. И не удивительно — что ему до нашего глухого края!
Аввакум подошел к одной из полок и поманил меня рукой. Он вынул из-под глиняных обломков длинный альбом, стряхнул с него пыль и стал перелистывать. На страницах альбома среди набросков ваз, амфор и прочих древних посудин я увидел знакомые, милые сердцу мотивы. Некоторые рисунки были выполнены карандашом, другие — углем, но все они были на редкость схожи с натурой. Я увидел мрачный, затянутый тучами Карабаир со стороны Момчилова, и зловещую Змеицу с ее зазубренными скалами, и склонившуюся к дороге, словно придавленную горами Илчову корчму, и домик Балабаницы с галерейкой. Вот в очаге пылает огонь, а рядом сидит на трехногом стульчике женщина… Ошеломленный, я смотрел на Аввакума. А он в ответ лишь пожал плечами, захлопнул альбом и небрежно швырнул его на полку с глиняными черепками.
— Любительские забавы, — сказал он, застегивая пуговицы на своем синем халате, словно ему вдруг стало холодно. — Нацарапал по памяти, и вовсе не от скуки, уверяю тебя. Мне многое надоедает, но я никогда не скучаю. Скука, по-моему, синоним душевного оскудения. Когда я остаюсь без дела — а это бывает очень редко, — то составляю интегральные уравнения и с наслаждением решаю их или же беру в руки задачник по теории вероятностей и строю различные гипотезы. Где уж тут скучать?.. Делаю по памяти наброски домов, витрин, уголков в скверах и парках, а потом хожу и проверяю, насколько удалось соблюсти формы и пропорции, не пропустил ли какие-нибудь существенные детали.
— А ты не собираешься наведаться в Момчилово, чтобы сверить на месте, например, некоторые детали на рисунке с очагом и трехногим стульчиком? — заметил я со смехом.
Он тоже засмеялся и погрозил мне пальцем, а затем спросил:
— А что если я уже произвел такую проверку?
От Аввакума всего можно было ожидать, поэтому я предпочел промолчать.
Я не спешил уходить. Аввакум показал мне две корзинки, доверху полные обломков терракоты.
— Две прекрасные ионические гидрии, — сказал он, и лицо его впервые оживилось. — Завтра примусь за реставрацию. Это будет чудесно!
Я смотрел на черепки, не различая в них никаких ваз, и не понимал, что же будет чудесным: восстановленные реликвии древности или же сама работа по восстановлению. Мне сдавалось, что под словом «чудесно» мой приятель подразумевал предстоящую работу. Что это было — жажда творчества? А может, состояние напряженного поиска — естественная стихия его ума?
Аввакум обладал врожденным, свойственным подлинному художнику чувством меры. Решив, видимо, что слишком долго занимает меня своей особой, он тотчас изменил тему разговора и стал расспрашивать, как «поживаю» я во владениях Мехмеда Синапа, будто я не знаю, что Мехмед Синап в наши края и не заглядывал. Но, подстегиваемый его вопросами, я сам слово за словом выложил ему все о своем житье-бытье. Опустил, правда, только встречу с Фатме у реки. Впрочем, это ведь была совсем пустячная подробность.
Аввакум внимательно слушал и что-то чертил карандашом в своем внушительном блокноте. Очевидно, разрисовывал какие-нибудь вазочки. Я, например, пытаюсь изобразить овечьи головы, когда мне приходится слушать кого-нибудь из вежливости.
Когда подошло время обеда, Аввакум ненадолго отлучился, чтобы умыться и переодеться. Меня так и подмывало посмотреть, что за вазу нарисовал Аввакум в блокноте. Но внутреннее чутье подсказывало мне, что на этот раз Аввакум изменил своей привычке и вместо ваз и черепков изобразил самые примечательные эпизоды моего рассказа. А рассказывал я с увлечением и, кажется, довольно живописно.
Но Аввакум вовсе и не помышлял о зарисовках! На листке вместо рисунков я обнаружил вот какую запись:
«Триград — Бор (S.S — Е): 7-8 км. Дорога — проселочная. Река. Два перехода вброд. Другие ручьи — 20 мин. Лес: 2 км — W, 1 км.S. E. На 6-м км — лесопилка (заброшена). Поляна. Все при хорошей видимости — 100 мин.
Бор — Видла (E от Триград, после E — S): 6 км. Дорога — проселочная. 2 км — лес (смешанный); 4 км — луга. Видимость! Все — 60-70 мин.»
Вся эта дремучая скука была испещрена разными топографическими знаками: треугольниками, кружочками с точкой посередине и еще какими-то иероглифами. Я узнал только один знак — тот, которым топографы обозначают сосновый лес, — потому что он немного напоминает настоящую сосну.
Напрасно я вглядывался в листок, выискивая следы своего восторженного рассказа. Непонятный человек этот Аввакум!
А потом мы отправились обедать. Аввакум был одет «а катр эпенгл», как говорят французы, — скромно, но элегантно, и я подумал, что он поведет меня в какой-нибудь из больших столичных ресторанов. Да и я ведь не зря повязал свой голубой галстук — наверное, во второй или в третий раз за последние три года. Правда, стояла ужасная жара, но мне, как ветеринарному врачу, положено соблюдать все правила приличия.
Когда Аввакум взял такси, мои надежды дообедать в лучшем ресторане превратились в уверенность. Я был очень доволен, тем более что давно не ездил в легковой машине; грузовики и вездеходы — «газики» мне осточертели. Поэтому я не обратил внимания на разговор Аввакума с шофером. Мне было все равно, где отобедать — в «Балкане» или же в Венгерском клубе.
Но когда такси помчалось в сторону от центра города и, пробравшись сквозь муравейник на бульваре Георгия Димитрова, свернуло влево к большому мосту через Владайскую речку, я начал было беспокоиться, но утешил себя тем, что неплохо пообедать и вне Софии, в каком-нибудь загородном ресторане. Я искоса взглянул на Аввакума, но он молчал.
За мостом машина замедлила ход и остановилась. Пока я с удивлением оглядывался вокруг, Аввакум расплатился с шофером и весьма любезно пригласил меня выйти. Он даже открыл мне дверцу. Разумеется, я и сам мог бы открыть ее, если б не загляделся.
С унылым видом я сошел на тротуар. Аввакум взял меня под руку и повел в какое-то совсем неказистое заведение, по-моему, даже без вывески. Пока мы пробирались между столиками, я уловил чрезвычайно приятный запах. Пахло шашлыком, черным перцем и выдержанным пивом. По винтовой лесенке мы поднялись на галерею, огибавшую зал в виде буквы П. Столики белели чистыми скатертями, было уютно и спокойно, сидя здесь, можно было видеть как на ладони весь зал и залитый солнцем противоположный тротуар. Ресторанчик мне сразу понравился, и я даже улыбнулся.
К нам подошла курносенькая официантка. Белая ленточка перехватывала ее белокурые волосы, а гофрированный передничек оттенял красивыми мягкими складками ее высокий бюст. Она улыбнулась Аввакуму, и я тотчас заметил это. Аввакум тоже улыбнулся. Сделав заказ, он сказал ей:
— Этот молодой человек — мой друг. Нравится он тебе?
Я думал, что девушка рассердится, потому что вопрос был не очень деликатен. Но она лишь подняла свои длинные ресницы, и в ее голубых глазах мелькнула смешинка.
А потом мы уплетали за обе щеки лучшие в мире кебапчета[2], пили лучшее в мире пиво, и нам было очень весело. Угощал Аввакум, как хозяин, но всякий раз, когда девушка с лентой в волосах подходила к нам, он просил меня заказать что-нибудь еще. Она склонялась над моим плечом так, что я ощущал ее дыхание на щеке. А один раз я невольно прикоснулся к ее руке. Аввакум добродушно и снисходительно улыбался, покуривая свою трубочку, и делал вид, что ничего не замечает.
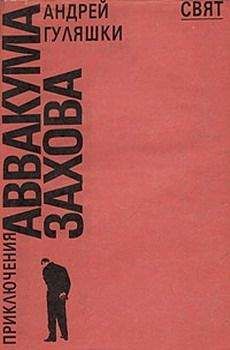


![Андрей Гуляшки - Случай в Момчилово [Контрразведка]](https://cdn.my-library.info/books/257229/257229.jpg)