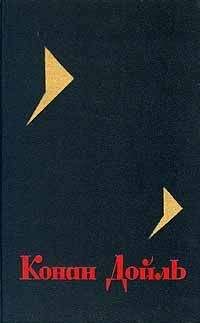Иванов перегнулся через борт машины, стараясь разглядеть, есть ли что-нибудь внутри автобуса, но вездеход уже завернул за угол и поравнялся с небольшим двухэтажным каменным домом, — штукатурка на нем облупилась, отпала и в разных местах виднелись потемневшие, изгрызанные временем, дождями и ветрами кирпичи.
Как много было связано у Стремянного с этим домом!.. Вот здесь, где зияет черная впадина вырванной взрывом двери, он когда-то, еще мальчиком, долго рассматривал комсомольский билет, который ему только что вручил секретарь горкома; а вон там, чуть дальше, у тополя со срезанной снарядом верхушкой, он стоял с Катей Парамоновой — лил сильный дождь, а они стояли под густым навесом, и им было весело…
Машина выехала на площадь.
Вот на углу высокое красное здание. Школа!.. Где-то сейчас Иван Степанович, старый учитель, который заставил лентяя Гошку Стремянного полюбить математику? Сутулый, в своем черном длинном пальто, Иван Степанович неторопливо выходил из дверей с пачкой тетрадей подмышкой, чтобы дома, пообедав и немного отдохнув, вооружиться карандашом, с одной стороны красным, а с другой синим, и начать проверку письменных работ. Синим карандашом он безжалостно ставил двойки и тройки, с таким сердитым нажимом, что часто ломал его, и от этого двойки кончались длинным лучистым хвостом — вот как бывает у кометы. Четверки и пятерки всегда были просто, но любовно выписаны…
Шофер немного притормозил, и сидевшие в машине почувствовали острый запах, исходивший, казалось, от стен этого здания — запах немецкого постоялого двора. Окна нижнего этажа были пересечены тяжелыми железными решетками, а над входом еще висела небольшая черная вывеска, на которой белой краской острыми готическими буквами было по-немецки написано «Комендатура».
— Вот, дьяволы, испортили здание, — сказал Громов. — Прямо будто тюрьма!
Иванов вздохнул и ничего не сказал. Обогнув площадь, вездеход въехал в боковую улицу — раньше она называлась Орловской. По обеим сторонам ее стояли небольшие домики, окруженные фруктовыми садами; не раз Стремянной вместе с другими мальчишками делал набеги на здешние яблони и вишни, не раз ему попадало от хозяев, которые его считали грозой своих садов, и это ему очень льстило…
Вдруг его сердце сжалось, и он невольно, до боли прикусил нижнюю губу. Что же это такое? Где улица? Теперь здесь не было ни садов, ни заборов, ни домов — огромный пустырь расстилался вокруг, деревья вырублены, дома разрушены… Остались лишь каменные фундаменты да груды старого кирпича.
— На дрова разобрали, — сказал Иванов, — все пожгли…
Отсюда совсем недалеко до Севастьяновского переулка. Надо только миновать этот длинный пустырь, где словно похоронено его детство, повернуть за сохранившуюся каменную трансформаторную будку — и тут, направо, второй дом от угла…
На трансформаторной будке нарисован череп и две скрещенные черные молнии. Когда Стремянному было девять лет, он боялся прикоснулся к этой будке — думал, что его тут же убьет.
— Притормозите, — сказал он шоферу. Это было первое слово, которое он произнес с той минуты, как они сели в машину.
Машина остановилась, и Стремянной, круто повернувшись всем корпусом направо, стал пристально разглядывать ничем не приметный одноэтажный деревянный домик, боковым фасадом выходящий на улицу. По обеим сторонам невысокого крылечка в три покосившиеся ступеньки угрюмо стояли старые дуплистые ветлы. Ветра не было, но, повинуясь какому-то неуловимому движению воздуха, ветки их по временам покачивались и роняли на затоптанные ступени клочки легкого, удивительно чистого снега. Стремянной глядел на эти ветлы и молчал, но по тому, как сжались его челюсти, каким напряженным стал его взгляд, оба его спутника сразу поняли, что это и есть тот самый дом, о котором он шутя говорил им в землянке на берегу Дона…
Так прошла, должно быть, целая минута.
— Может, сойдешь, товарищ Стремянной, посмотришь все-таки? — легонько дотрагиваясь до его плеча, негромко спросил Громов.
Стремянной, не оборачиваясь, помотал головой:
— Да нет, не стоит… Там пусто.
— Разве? А смотри-ка, между рамами кринка стоит, и окошко свежей бумагой заклеено. Нет, там, видно, живут…
— Ну, пусть живут… Поворачивай к вокзалу, Варламов.
Машина, подпрыгивая на ухабах и объезжая воронки, выбралась к железнодорожному переезду, пересекла его, с трудом пробралась мимо развалин вокзала и водокачки и очутилась на маленькой привокзальной площади, где до войны посреди круглого сквера стоял памятник Ленину, а сейчас высился лишь один гранитный постамент. Шофер вдруг резко затормозил.
Стремянной, а за ним Иванов и Громов быстро соскочили на землю и сняли шапки. Перед ними на покатой, занесенной снежком клумбе лежали трупы расстрелянных пленных бойцов. Их было человек двадцать — одни в потрепанных солдатских шинелях, другие в ватниках. В тот миг, когда их застала смерть, каждый падал по-своему, но было какое-то страшное однообразие смерти в этих распростертых телах.
Никто из стоявших над убитыми не заметил, как из-за угла ближайшего дома появился мальчик лет, должно быть, девяти-десяти. Он был одет в коротенькую курточку шинельного сукна, в которой ему было холодно. Он зябко жался. На его ногах были старые, латаные-перелатанные валенки, а на голове рваная солдатская шапка. Мальчик медленно подошел к ограде сквера, сосредоточенно разглядывая приезжих большими серыми глазами. Маленькое, сморщенное в кулачок лицо казалось серьезным, даже строгим.
С минуту он стоял, как будто ожидая, чтобы его о чем-нибудь спросили. Но его не заметили, и он, не дождавшись вопроса, сказал сам:
— Утром расстреляли… Уже часов в девять. Они не хотели уходить.
Громов оглянулся:
— Не хотели, говоришь?
— Ага…
— А где их держали? — спросил Стремянной.
— В лагере.
— А лагерь где?
— Вон там! Все прямо, прямо, до конца улицы, а потом налево, — и мальчик рукой показал, куда надо ехать.
— Ну что ж, товарищи, едем, — сказал Громов.
— Погодите!.. Варламов, есть у тебя что-нибудь с собой?
— Есть, товарищ подполковник! Банка консервов.
— Давай ее сюда! А ну-ка, малыш, подойди поближе!
Мальчик нерешительно подошел.
— Вот возьми. — Стремянной протянул ему белую жестяную банку. — Бери, бери! Дома поешь…
Мальчик взял консервы, личико его осталось серьезным и чуть испуганным, и, не поблагодарив, крепко прижимая банку к груди, он исчез где-то за домами.
— Товарищ подполковник! Товарищ подполковник!..
Стремянной обернулся. К нему бежал командир трофейной команды капитан Соловьев. Он почти задохнулся от сильного бега — после тяжелого ранения в грудь его перевели на нестроевую должность. До сих пор в трофейной команде было не очень-то много работы, но сегодня команда тоже вошла в дело, и Соловьев метался из одного конца города в другой.
— Что такое, — строго спросил Стремянной, — чего вы бегаете? Что случилось?..
— Товарищ подполковник, — сразу осекшись, доложил капитан, — уже обнаружено пять крупных складов с продовольствием и обмундированием!.. Вон видите церковь? — Он показал на большую старинную церковь с высокой колокольней. — Она почти до самого верха набита ящиками с консервами, маслом, винами… Не только нашей дивизии, всей армии на месяц продовольствия хватит!..
— Поставьте охрану! — сказал Стремянной. — Противник еще недалеко, всякие неожиданности могут быть. Без моего разрешения никому ни капли!
— Слушаюсь! Ни капли! — Соловьев козырнул, быстро повернулся и побежал назад.
А Громов, Иванов и Стремянной зашагали к своей машине.
— Куда же теперь? — спросил Иванов. — В лагерь, что ли?
— Дело! Поехали.
Едва успели они занять места в машине, как на площадь из боковой улицы вышли несколько солдат с автоматами. Они вели двух пленных гитлеровцев. Немцы, в одних куцых мундирах с поднятыми воротниками, брели, поеживаясь от холода.
Стремянной невольно остановил глаза на одном из пленных. Это был уже немолодой человек, плотный, в темных очках. Должно быть, почувствовав на себе чужой внимательный взгляд, эсэсовец поднял плечи и отвернулся. В эту минуту шофер включил скорость, и машина тронулась, оставив далеко позади и пленных и конвой.
Вдруг рука Иванова в толстой теплой варежке легонько коснулась плеча Стремянного.
Стремянной обернулся.
— Музей тут, на углу!.. — сказал Иванов. — Давай остановимся на минутку.
Они подъехали к двухэтажному каменному зданию, облицованному белыми керамическими плитками. Через весь фасад тянулась темная мозаичная надпись: «Городской музей».