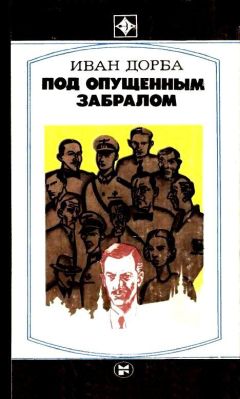Алексей Иванович, примерно такого же роста, как Миша, светлый шатен с сединой, широкоплечий, голубоглазый, лет 45—48, с прямым носом и высоким лбом, говорит звучным баритоном, очень экспансивен.
Он бросился ко мне, как к родной сестре, и держался так до конца, все время повторяя, что хотел бы все время быть со мной, говорить, слушать, что он не ожидал встретить такого человека.
Однако на другой день он, привезя Мишу (который совсем не знает языка и плохо ориентируется в Париже), сказал, что человек он увлекающийся и потому, чтобы нам не мешать поговорить, уходит. Оставаясь наедине со мной, Миша тотчас становился простым. Чувствовалось, что Алексей Ив. ему мешает. Он даже пожалел, что сразу не представил меня как Ксению, а назвал настоящее имя.
Наши встречи тщательно охранялись от глаз агентов Москвы. В разговорах я не чувствовала со стороны Миши и Алек.
Ив. никакой настороженности, и, в свою очередь, я всячески подчеркивала свое полное к ним доверие.
— Миша несколько раз извиняющимся тоном говорил: "Пусть Володя не сердится, как это видно из последнего письма, пусть не обижается. Мы ведь не заставляем его разносить листовки. Пусть сам нам скажет, что делать и как лучше организовать работу".
Резюмируя все беседы, создается впечатление, что они отнеслись ко всему с полным доверием.
В этих людях чувствуется какая-то неуверенность! У них нет ясной перспективы. Может быть, они понимают, какое жалкое впечатление производят, понимают, что не Тарсис, не Вольпин-Есенин и четыре писателя-инкогнито герои "Свободной России", и, может быть, поэтому так настойчиво требуют, чтобы Володя и я указывали оттуда, из России, что нужно делать.
Их ставка на молодежь — на студентов и на писателей. Задача — засылать побольше антисоветской литературы и разъяснять по радио, какое зло большевики. Этим они оправдывают свое существование.
В подготовке к встречам и выполнению задания я руководствовалась на месте инструкциями тов. Михайлова, которые, как мне кажется, и помогли успешному выполнению операции».
***
Заканчивался очередной период моих долгих блужданий в «Омуте истины»[52], наступал другой — творческий. Я все чаще встречался и ближе сходился с подлинными «инженерами человеческих душ» многих республик Союза. Общение с ними меняло взгляды на жизнь, на прошлое, на оценку самого себя... Слушая рассказы Константина Гамсахурдия о том, как он сидел на Соловках, в памяти возникала встреча с братьями Солоневичами и их роман «Россия в концлагере». Сравнивал впечатления Константина Паустовского о Франции со своими. Посмеивался над страхами Бориса Пастернака, хранившего у Александры Петровны, от глаз жены, письма Марины Цветаевой и одновременно размышлял о прочитанном романе «Доктор Живаго», хранящемся еще в рукописи в Тифлисе у доброй, очаровательной Нины Табидзе — княжны Макаевой, которая по приезде в Москву звонила: «Вано! Привезла вам вина! По дороге в Переделкино к Борису заеду к вам. Спускайтесь через десять минут!» И однажды случилось так, что я, выписывая сербскую «Политику», вычитал в ней, что первым кандидатом на Нобелевскую премию — Пастернак. Таким образом, я поздравил его первым. На другой день его пришли поздравлять Сурков с синклитом, а после обеда явились снова, уговаривать отказаться. Ряд подобных эпизодов мной записан, кое-что напечатано или хранится в памяти.
Много для души и ума давали путешествия по стране: Кавказ, Лимитрофы, Крым, Ленинград, Киев... В Кахетии, на реке Алазани, стоит дом народного поэта Грузии Сандро Шаншиашвили. В гостиной простая беленая печь, а на ней подписи многих видных литераторов и общественных деятелей Европы, таких как Анри Барбюс, Ромен Роллан, не говоря о наших писателях. Среди них и ближайшего их друга Тихонова. Доброго моего друга Николая Семеновича, председателя Комитета зашиты мира, мастера рассказа, с детства мечтавшего побывать в Индии. И когда его мечта осуществилась, он потрясал гидов знанием истории и географии этой сказочной страны. Слушая его восторженный рассказ о храме Блаватской или о Ганге — священной реке, где сжигают мертвых, в воображении вставал огромный, неизведанный новый мир...
Каждый талант — грань истины, будь то Рыльский, который не прочь выпить рюмку-другую, или Тычина, который с ужасом рассказывает, как его школьный дружок Ворошилов, по окончании парада на Красной площади, потащил его с мавзолея «куда-то вниз» и заставил выпить полстакана!!! водки! Или страстный путешественник Сергей Сергеевич Смирнов, изучавший древнее Перу, странник по морям и океанам Вилис Лацис, по суше, больше пешком, мой учитель Евгений Германович Лундберг или далекий потомок испанских рыцарей народный поэт Эстонии Иоганнес Семпер—каждый оставлял в душе неизгладимый след, а в памяти—рассказ, новеллу, целую повесть. У них всех таился, как говорил Геродот, «неистребимый запас надежд», а Лермонтов — «святое вечности зерно»...
После суровой московской зимы, упорной работы над переводами, рецензиями, когда апрельское солнышко весело заглядывало в окна, тянуло «к перемене мест». Пушкин прав — «весьма мучительное свойство...» И мы обычно уезжали на юг. А иногда приходила телеграмма из Латвии: «Расцветает сирень, приезжайте. Ваш Карл Краулинь».
В человеке заложено, а верней, во всем живом, нечто потустороннее — предчувствие, передача мыслей, гипноз, вещие сны, предугадывание будущего. Отсюда апокрифы, мифы, Нострадамус и Книга откровений Иоанна Богослова — Апокалипсис...
Сирень, этот цветок древних русских дворянских гнезд, в Латвии цветет пышно. Окончив философский факультет, Карл Краулинь, хочешь не хочешь, отложил в далекий ящик свой любимый предмет и, возглавив (на какое-то время) писателей в Риге, стал критиком. А Спинозу, Канта, Гегеля, от греха подальше, увез на дачу (трехэтажный домик!) в поселок Мурьяни, что на живописной реке Гауе. Там, в тишине, спокойно можно было заниматься разведением цветов и мыслить!
И когда я с удивлением спросил его как-то: откуда, каким образом здесь вырастает такая необычно пышная, яркая сирень, Краулинь, взяв меня под руку, рассказал древний скандинавский миф.
В разгаре апрель, земля жаждет даров. Богиня весны, желая поскорей украсить цветами поля и луга, птичьими гнездами, разбудила дремавшее солнце: «Вставай, поднимайся! Слышишь сдерживаемые стоны страстных желаний и печальных вздохов природы?»
И солнце тут же, в сопровождении богини весны и своей неразлучной спутницы Ирис — радуги, — обогрело землю. И всюду вырастали красные, бледно-голубые, темно-синие, золотистые, снежно-белые и крапчатые цветы. И когда утомленное солнце захотело передохнуть, богиня весны бросила взгляд на север и его скудную растительность и попросила солнце: «Позволь мне, всемогущее светило, одеть цветами и эти холодные страны, и, хотя радуга почти израсходовала все свои краски, осталось еще немного лиловой!»
«Сейте лиловую!» — согласилось доброе солнце. А увидев слишком много лилового, взяв из рук богини весны палитру, смешало все оставшиеся семь цветов и посеяло по всей земле.
Так появилась белая сирень—цветы, придающие человеку и всему живому физические и моральные силы...
Слушая Карла, я думал о том, что в Англии сирень считают цветком горя и расставания, а во Франции, особенно белую, — цветком счастья. А разве все мы, вдыхая ее аромат, невольно не ищем цветок с пятью лепестками?..
И вспоминал скамейку под кустом цветущей сирени, где произошло первое признание в любви, и твердил про себя:
Заглохший старый сад, приют былых свиданий...
Все время унесло, и лишь былые тени
В мечтаниях передо мной из прошлого встают...
...Пролетели годы, и только мой портрет в кустах сирени навевает мысли о том времени.
В 1976 году здоровье у Али становилось все хуже и хуже. Пролежав в январе 1977 года в больнице Старых большевиков, настойчиво стала просить заведующую кардиологическим отделом Ольгу (Улькер) Халиловну Алиеву ее выписать. Добрая Ольга Халиловна пошла ей навстречу. Но, понимая серьезность болезни, стала приходить к нам на Кудринку. В марте, несмотря на предостережения, мы уехали в Ялту.
Словно предчувствуя свою смерть, Александра Петровна написала Ольге письмо, напоминавшее завещание: «Не покидайте моего Альмаро!»
В мае, после похорон, я позвонил в Москву и понял, что Оля переживает смерть вместе со мной что она мне близка, меня не покинет! Смерть Али, а до того ее болезнь измочалили меня, я был чуть живой.