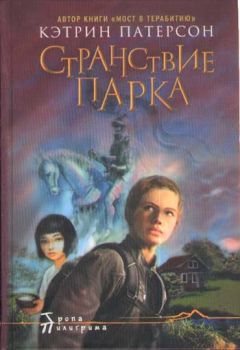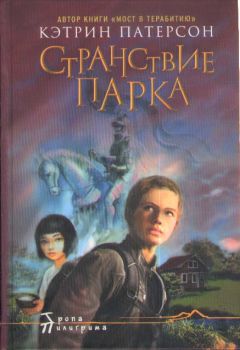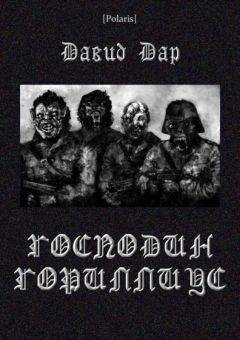— Прошу вас, антракт уже кончился, — сказал Лавров и проводил Роггльса до двери партера.
Девушки были свидетельницами инцидента в буфете. Услышав обращение Эдмонсона к Роггльсу, они узнали в нем автора нашумевшей у нас книги «Предатели нации». Кроме того, сегодня газеты, напечатав большую статью «Прогрессивный журналист перед судом реакции», вновь напомнили о Патрике Роггльсе. В этой статье было рассказано о выступлении в сенате Мориса Поджа и об отказе матери Роггльса от своего сына.
Прогрессивный журналист вызывал к себе чувство симпатии и дружеского уважения как мужественный и сильный человек.
Когда Роггльс вошел в партер и занял место, не очень уверенно, по-английски, Люба спросила его с большой долей участия:
— За что он вас оскорбил?
— Видите ли, не знаю, искренне или нет, Эдмонсон, корреспондент «Марсонвиль Стар», в буфете высказал несколько красивых гуманных мыслей, но одно дело кудрявые фразы за бокалом вина, другое — мужественное заявление в печати. Я знаю этих джентльменов пера: в кулуарах общественных учреждений — мысли со следами завитушек перманента, а на страницах газеты — статьи, издающие подозрительный запах посольской кухни. Эдмонсону я сказал правду, но правда оказалась ему не по вкусу, — ответил Роггльс на отличном русском языке.
— Тише! — в благородном негодовании прошипела рядом сидящая старушка.
Началось третье действие балета.
— Дай мне, Красуля, программу, — шепотом попросила Люба и углубилась в чтение.
Машеньку нельзя было назвать красавицей, она скорее была дурнушкой, но девятнадцать лет — такой возраст, когда девичья свежесть ярче зрелой красоты. Радость жизни, нетерпеливое ожидание этого вечера, редкого вечера без внимательной опеки отца, делали ее особенно оживленной, хорошенькой. На ней было новое платье сиреневого крепа с маленьким декольте. Букетик ярких искусственных цветов у корсажа выгодно подчеркивал ее свежесть. А мамин золотой медальон на бархотке и тоненькое колечко с бирюзой увеличивали сознание того, что она переступила порог своей юности и жизнь раскрывает перед ней какие-то новые, еще не изведанные дали.
В Большом театре Маша бывала и прежде, но каждый раз здесь все как бы вновь поражало ее своим масштабом и великолепием. «Лебединое озеро» она впервые видела еще девочкой, второклассницей. Теперь она смотрела балет будто впервые. Тема романтической любви Одетты и Зигфрида волновала ее. Тревога за их светлое и чистое чувство вызвала у Маши слезы. Поймав на себе внимательный взгляд Роггльса, она смутилась и отвернулась.
В антракте между третьим и четвертым действием они вместе вышли в фойе. Роггльс предложил зайти в буфет, но девушки отказались. Люба была оживлена и болтала за двоих. Машенька еще под впечатлением третьего действия молчала, прислушиваясь к разговору Любы и Роггльса.
— Простите, — извинился Лавров, подойдя к Роггльсу, — ваш коллега забыл на столе сигареты. Не откажите в любезности передать ему эту пачку.
— Очень жаль, но вряд ли я в ближайшее время увижу его, — вежливо ответил Роггльс и, взяв девушек под руки, чем окончательно смутил их, направился дальше.
— Скажите, — спросила Люба, — вашему коллеге за этот поступок в буфете что-нибудь будет?
— Дежурный секретарь посольства прочтет ему скучную лекцию о вреде пьянства и отправит на своей машине в гостиницу, — улыбаясь, ответил Роггльс.
— Правда, что у вас неприятности? Когда вы вернетесь домой в Марсонвиль, они вас… ну… я… — так и не договорив, Машенька смутилась и покраснела.
— А что вам известно о моих неприятностях?
— Все. Я читала в газете. Они заставили мать отказаться от вас. За что? За правду?
— У нас в Альтаире говорят: «Леди Трабл приходит к вам в дом, принимайте ее всерьез и надолго». «Трабл» по-русски «огорчение».
— Я знаю. Мы учимся в институте иностранных языков, на английском.
— На каком курсе?
— На третьем.
— А вы оставайтесь здесь, у нас, в Советском Союзе, — сказала Люба.
— Если все мы будем покидать родину, кто же будет бороться со средневековым варварством господ морисов поджей?
После спектакля они вышли вместе. Люба жила поблизости, в Брюсовском переулке. Она простилась и пошла одна. Машенька жила в новом высотном доме на Котельнической набережной. Роггльс предложил девушке отвезти ее в такси, но Машенька отказалась, и они пошли пешком через Красную площадь.
Ветер утих. Шел крупный, пушистый снег. На металлическом остове будущего дома в Зарядье вспыхивали слепящие огни электросварки.
Они шли по набережной молча. Рядом с Роггльсом, высоким и сильным, Машенька казалась маленькой и даже хрупкой. Девушка чувствовала, как тепло его руки проникает сквозь рукав шубки, поднимая в ней какое-то новое, еще неизведанное, волнующее чувство.
В Целендорфе, юго-западном районе Берлина, на Клейаллее, улице особняков и вилл, впрочем, как и везде на Западе, реклама «Кока-кола» назойливо лезла в глаза, настойчиво заявляя о себе с крыш автобусов и со стен домов, из жерл репродукторов, с экранов телепередач и кино.
По тому, как Адам Кноль рассматривал шикарный плакат «лучшего в мире напитка», можно было заключить, что «вдохновляющий», «возбуждающий» и «дающий все радости жизни» «Кока-кола» был пределом его желаний.
С утра Адаму Кнолю не удалось промочить горло, кружка баварского пива была для него недосягаемой мечтой. И все-таки его интересовал не «напиток радости». Рассматривая плакат, Кноль внимательно наблюдал за человеком, ожидающим машину. В руке этого человека, одетого в костюм вызывающего бутылочного цвета и песочное пальто, был портфель из тисненой кожи с серебряной монограммой.
Человек небрежно переложил портфель под мышку, засунул руку в карман и вышел на середину проезжей части. Отсюда перед ним открывалась перспектива Клейаллее. Но машины, по-видимому, не было, так как Пижон (Кноль окрестил обладателя портфеля Пижоном) вернулся на тротуар.
Адам Кноль, как он говорил сам, «был геологом по исследованию карманных недр». Сумочки и портфели были не по его специальности, но… «Кто знает, — думал он, — быть может, кружка пива и порция сосисок таятся как раз в этом портфеле с монограммой?»
Фланирующей походкой богатого бездельника Кноль направился к Пижону. Он шел не торопясь, но в эти минуты все его жилистое, сильное тело как бы аккумулировало энергию для предстоящего броска.
Через минуту, слыша за собой свистки и крики, Кноль, минуя проходной двор, выбежал на Лимаштрассе и, на зависть любому спринтеру, за пять минут финишировал на площади вокзала Целендорфвест. Здесь, заскочив в ворота дома, он засунул портфель под брючный ремень, застегнул пиджак и, тяжело дыша, вышел на площадь. Заметив приближающийся по Лимаштрассе полицейский мотоцикл с Пижоном на багажнике, Кноль выбежал на платформу вокзала и успел вскочить в вагон пригородного потсдамского поезда. В последний момент, увидав, что бывший обладатель портфеля вцепился и повис на поручнях хвостового тамбура, Кноль стал быстро перебираться в головной вагон и, не доезжая Фриденау, выпрыгнул из поезда на ходу. «Черт возьми! — подумал Кноль, озираясь по сторонам, — Пижон мне наступает на пятки. Видно, в этой штуковине столько марок, сколько пуха в перине господина инспектора!»
По Альзен Фреге Адам Кноль быстро добрался до Вильмерсдорфа, вскочил в сименсштадтский поезд, вновь соскочил на Кайзердамм и пересел в автобус, идущий на восток в Тиргартен-парк. Только здесь Кноль почувствовал себя в безопасности, он мог отдышаться и собраться с мыслями.
Конечно, он поедет сейчас к фрау Кениг. Плоская, как гладильная доска, вдова налогового инспектора Амалия Кениг жила в районе Лихтенберг на Леопольдштрассе. Адам Кноль с «добычей» был здесь всегда желанным гостем.
Когда, внезапно затормозив, автобус швырнул пассажиров вперед, Кноль, чтобы удержаться на ногах, схватился руками за поручни, портфель выскользнул из-под ремня и упал на пол. Подняв портфель, Кноль оглянулся и встретился глазами с полицейским.
Потертый и выгоревший на солнце костюм Кноля, рваная дамская вязаная кофта под пиджаком, улыбающиеся башмаки с откровенно вылезшим большим пальцем правой ноги были в таком непримиримом противоречии с шикарным портфелем, что даже сам Адам Кноль это понял и заторопился к выходу. Заметив это движение Кноля, полицейский протиснулся за ним и вежливо представился:
— Сержант народной полиции Генрих Шютц.
— Очень приятно, Карл Фишер, служащий, — выдавив подобие улыбки, ответил Кноль.
— Господин Фишер, гравер этой монограммы ошибся, ваши инициалы «К» и «Ф», а на портфеле «Э» и «Ц»!
— Господин шуцман, я купил эту штуку еще на рейхстаговке…