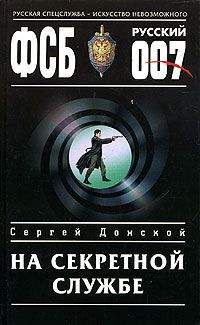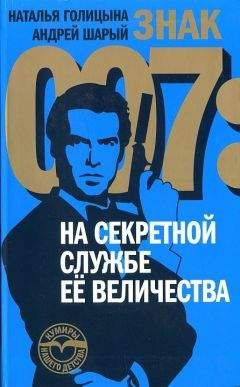– Я передумал. Не стану тебя убивать, бить и уговаривать тоже больше не стану. Просто сдам тебя местным эсбэушникам как пособницу ЦРУ. Материалов на тебя предостаточно, а Катерина не будет тебя выгораживать. – Бондарь улыбнулся. – Наверное, она не раз делилась с тобой воспоминаниями о суровых буднях в колонии строгого режима. Так вот, ты испытаешь то же самое и даже поболее того.
– Почему поболее? – насторожилась Оксана.
– Потому что не умеешь постоять за себя. Потому что всем твоим сокамерницам станет известно о твоих лесбийских наклонностях, уж об этом я позабочусь. Будешь обслуживать ежедневно десять… двадцать… тридцать грязных баб, истосковавшихся по мужской ласке. А когда им это наскучит, они станут ублажать тебя. В женских колониях нет искусственных членов, но для тебя найдется какая-нибудь деревянная заготовка. Надеюсь, на ней будет достаточно заноз.
– Как ты можешь?! Я же для нас обоих стараюсь. Как только деньги станут моими, я…
– Деньги Григория Ивановича никогда не станут твоими, – перебил Оксану Бондарь. – Ты сядешь в тюрьму, я же сказал. И если затеешь что-нибудь подобное, когда я уеду, то все равно сядешь. Потому что компромат на тебя ляжет в конверт с завещанием Пинчука. Завтра же утром.
Это был блеф чистой воды, но блеф весьма убедительный. Настолько убедительный, что Оксана тотчас спрыгнула с кровати и метнулась в коридор, где ударилась об дверь с безрассудным отчаянием осы, ищущей выход из западни.
– Гришенька, милый, – надрывалась она, – ничего не было, я все наврала, прости ты меня, дуру несчастную…
Примерно на второй минуте этих причитаний дверь кабинета распахнулась. Оксана на коленях подползла к пошатывающемуся мужу и, обняв его за ноги, уткнулась лицом в мохнатый живот. Картина называлась «Возвращение блудной жены». Полюбовавшись ею, Бондарь направился к лестнице, но, поставив ногу на первую ступеньку, обернулся:
– Задайте ей хорошую трепку, Григорий Иванович, вот мой совет. И никогда не верьте ничему, что говорит вам женщина, – ни хорошему, ни плохому.
– А вам, Женя? – спросил Пинчук, нетвердо выговаривая слова. – Вам я могу верить?
– Обязательно, – сказал Бондарь, начиная подъем. – Так будет лучше для всех нас. Спокойной ночи.
Пожелание зависло в воздухе. Да и о какой спокойной ночи могла идти речь, когда еще долго-долго снизу раздавались топот, шум, возбужденные голоса и даже звон бьющейся посуды?
Было несложно догадаться, какой будет развязка. Милые бранятся – только тешатся. Их бурные скандалы обычно заканчиваются не менее бурными примирениями, а каждую мирную идиллию непременно нарушает новая ссора. Других способов разнообразить семейную жизнь люди пока что не придумали.
С этой мыслью Бондарь провалился в глубокий сон.
XXVII. Прощай, нелюбимый город
Утро последнего дня прошло в недолгих сборах. Потом состоялся ранний завтрак, на протяжении которого Бондарь старался не смотреть на чету Пинчуков, которые тоже чувствовали себя крайне неловко. Под глазами Григория Ивановича темнели круги, его роскошные брови за минувшую ночь словно бы поредели, а возле губ обозначились горькие складки, которых еще вчера там не было. Лицо Оксаны было заметно перекошено, сквозь тональный крем проступали синяки, нос увеличился в размерах примерно в полтора раза.
Внутренние перемены, произошедшие с обоими, наверняка были более кардинальными, но Бондарь не собирался лезть к ним в душу. У него имелась своя собственная душа, чтобы копаться в ней бессонными ночами.
Извинения и изъявления благодарности, с которыми полез к нему Пинчук, пришлось принять, но выслушивать их было так трудно, что уже на третьей фразе Бондарь поморщился и попросил:
– Давайте не будем об этом. Ведь на самом деле вам хочется забыть все, как страшный сон.
– Иногда кошмары необходимы, – пробормотал Пинчук, неуклюже перетаптываясь на месте. – Отбоишься свое, отмучаешься, уже и с жизнью попрощаешься, а потом откроешь глаза: глядь, а сквозь шторы солнышко пробивается, у изголовья часы тикают, под боком законная жена посапывает. Значит, жизнь продолжается. Все-таки продолжается, а?
– Продолжается, – согласился Бондарь. – Но если кошмар был очень уж страшным, то нужно поскорее его забыть. Посмотреть в окно и сказать: «Куда ночь, туда и сон».
– Я так и сделал, – слабо улыбнулся Пинчук. – Не очень-то помогло. Есть другой способ забыться. Может, посидим на дорожку? Коньяк еще остался.
– Нет, мне нужно побыть одному.
– Да, конечно.
Было заметно, что Пинчук испытал облегчение, покидая комнату гостя. Тяжело находиться в обществе человека, который знает о тебе слишком много…
О тебе и о твоей жене…
Бондарь взглянул на часы, гадая, как быть дальше. До вылета в Москву оставалось слишком много времени, чтобы провести его в аэропорту. В доме Пинчука тоже торчать не хотелось. Его обитатели успели порядком поднадоесть Бондарю. Общение с ними напрягало его. Будет куда приятнее прогуляться на свежем воздухе, решил он, тем более что впервые за все это время выдался по-настоящему погожий денек.
На дворе стояло бабье лето – мягкое, ласковое, обволакивающее. Странное название. Почему, например, нет лета мужицкого?
Размышляя об этом, Бондарь спустился вниз и… столкнулся с поджидающей его Оксаной.
– Привет, – сказала она виновато.
Намеревавшийся пройти мимо Бондарь вдруг заметил, что ресницы у нее мокрые и трепещут, как крылышки бабочек, стряхивающих росу.
– Привет, – буркнул он.
Шагнув вперед, она порывисто обняла его обеими руками, прижалась щекой к его щеке и прошептала:
– Женя, Женечка, прости меня за все, дуру несчастную.
Поцелуй ее был стремительным и сухим, словно прикосновение змеи, испытавшей неожиданный прилив нежности.
– Надеюсь, отныне ты будешь дурой счастливой, – проворчал Бондарь, высвобождаясь из тяготящих его объятий. – Но без меня.
– Ну и проваливай, – прошипела Оксана. – Никто не заплачет.
Дверь за Бондарем захлопнулась с таким грохотом, что над домом взметнулось целое полчище потревоженных ворон.
* * *
Убирая с лица невидимые паутинки, Бондарь прошел через сад и направился прямиком к морю.
К затерявшейся между скалами бухточке вела одна-единственная крутая тропа. Спустившись по ней до середины, Бондарь остановился на глинистом пятачке, откуда открывался отличный вид на пустынный берег.
Сверху море выглядело рябым: ультрамариновый фон перемежался фиолетовыми, лазурными и даже бирюзовыми разводами. Было непонятно, чем именно от моря веет – свежестью или же все-таки гнилью. Каменные глыбы, тут и там торчавшие из воды, оставались сырыми, несмотря на то, что солнце уже припекало вовсю. Просоленные добела, они походили на окаменелые останки динозавров.
Старик с развевающейся на ветру белой шевелюрой привлек внимание Бондаря не сразу, но, приглядевшись, он решил подойти и познакомиться. Судя по мольберту, возле которого топтался старик, это был тот самый художник, картины которого висели в доме Пинчука. Почему бы не поболтать с человеком, который просто рисует море, вместо того чтобы плести интриги, хитрить, убивать или умирать во имя чужих, маловразумительных идей?
Приближение незнакомца ничуть не смутило старика, который как ни в чем не бывало продолжал колдовать над холстом.
– Добрый день, – поздоровался Бондарь.
– Добрый день, молодой человек. Только не стойте, пожалуйста, у меня за спиной. Перейдите сюда. – Старик ткнул кисточкой вправо.
– Опасаетесь выстрела в спину?
Задав этот вопрос, Бондарь смущенно кашлянул. Ведь не все люди находятся в состоянии постоянной боевой готовности, как он сам.
– Я не боюсь выстрелов в спину, – прозвучало в ответ. – В упор тоже, потому что врагов у меня давно не осталось. Просто вы отбрасывали тень на холст. Теперь вы мне не мешаете.
– Кто-нибудь покупает у вас картины? – спросил Бондарь, чтобы загладить свою оплошность.
– А то вы не знаете, молодой человек, – ворчливо ответил старик. – Вы ведь гостите у Григория Ивановича, и тот наверняка хвастался вам своей коллекцией. Я что-то вроде его придворного живописца. Он мой единственный, но зато постоянный покупатель.
Бондарь усмехнулся. Придворный живописец Пинчука умудрился перепачкать торчащие над ушами волосы краской и выглядел немного забавно. Точно седой панк, упорно не желающий смириться со своим возрастом. А яркое солнце безжалостно высвечивало все его морщины.
Это казалось забавным, пока Бондарь не испытал леденящее ощущение дежавю. Однажды он встречался со старым художником, даже не просто встречался, а беседовал с ним, спокойно и обстоятельно. Но когда?
Где? Что значит это наваждение?
* * *
– Вы, случайно, не были этим летом в Севастополе? – спросил Бондарь.
Старик покосился на него, потом, прищурив один глаз, сделал пару мазков на холсте и лишь тогда неохотно открыл рот: