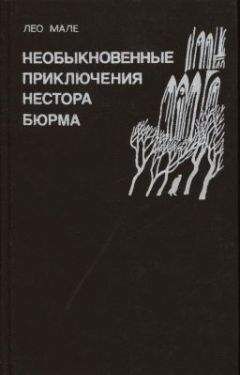Лео Мале
Неспокойные воды Жавель
Декабрь в этом году выдался сравнительно мягкий, но зато изобиловал мелкими, моросящими дождями, о коих во всех парикмахерских и у консьержек шли нескончаемые споры с целью установить, что предпочтительней – этот дождь или же снег, на который после пятнадцатого числа мы обычно имели право рассчитывать. Одно можно было сказать с уверенностью: эта мерзопакостная изморось не красила улицу Сайда.
Само собой, лучше уж жить на улице Сайда, чем вообще не иметь пристанища и спать под мостами. По сравнению с жизнью бездомных бродяг тут ощущается явный прогресс, и все-таки! Улица эта, что там ни говори, невеселая.
Позвонившая мне женщина проживала на улице Сайда, как раз в одном из тех домов с рассчитанной на людей среднего достатка квартплатой, которые, вероятно, были задуманы архитектором, отличавшимся чрезвычайно развитыми родственными чувствами, а на этом участке практиковал, видимо, один из его родственников – врач. На такую мысль навел меня вид прямо-таки разбойных металлических лестниц, сооруженных с наружной стороны зданий. Приставные – так, мне думается, они называются. Прошу прощения, если я ошибаюсь, однако приставные или еще какие – неважно, главное, что они совершенно негодящие. Соединяя между собой два здания, жители которых ими пользуются, эти самые лестницы образуют мрачного вида вертикальную клеть высотою в пять этажей и продуваемую всеми ветрами, с какой бы стороны они ни дули. Короче, торчать на лестничных площадках было противопоказано, в особенности человеку со слабыми легкими. А иначе тут же подцепишь хворь и… пожалуйте к доктору – ловкий трюк, ничего не скажешь! Хотя, если вдуматься хорошенько, то трюк этот, возможно, не так уж плох, ну, например, в тех случаях, когда речь идет о хвори, которую могут подцепить всякие там податели счетов или уведомители о каких-либо принудительных мерах. Так что в конечном счете равновесие соблюдено, ибо нет худа без добра. (Я подумал, сколько же таких липовых утешений приходится, наверное, изобретать, чтобы привыкнуть жить в подобном месте.)
Однако, возвращаясь к описанию открывшейся моему взору картины, нельзя не упомянуть об отвратительном белье, развешанном на наклонных перилах каждого лестничного пролета движимыми похвальным оптимизмом руками и, вопреки своему отвращению ко всему на свете, пытавшемся сушиться под унылой моросью.
Между уличной оградой и строениями простирался двор, то есть участок грязного месива, который где-то году в 1939-м был, видимо, газоном, засеянным травой.
Двое мальчишек, один из которых временами покашливал, торчали посреди двора, не обращая внимания на моросящий дождь. Глаза их были мечтательно устремлены к одному из верхних этажей, где на окне проветривались голубые трусики с воланами, которые влажный ветерок то надувал, то заставлял трепетно биться, подобно сердцу.
Я шагнул за ворота.
Нельзя сказать, чтобы я наделал много шума, и тем не менее оба мальца, почуяв мое присутствие, резко обернулись, словно застигнутые на месте преступления. Курили оба, но только один из них достиг того возраста, когда это более или менее позволительно. Они безуспешно пытались спрятать свои окурки.
Улыбнувшись, я помахал им трубкой.
– Ладно, ребята, я тоже дымлю,– сказал я.
– Н-да,– ухмыльнулся тот, что был постарше, лет пятнадцати; из-под кепки, сдвинутой набекрень, выглядывало некрасивое, до времени постаревшее лицо. «Н-да»,– ухмыльнулся он, всем своим видом давая понять, что если в мои намерения входит сделать им выговор, то это все равно ни к чему не приведет – бесполезно.
Видать, взрослым он не шибко доверял, и если бы ему пришло вдруг в голову сбагрить как-нибудь по дешевке это свое доверие, чтобы купить себе бутерброд, то хорошо бы это случилось, когда он будет не слишком голоден, ибо бутерброд ему обломится скорее всего малюсенький. Его приятель был ничуть не похож на него. На его помятом личике болезненного ангелочка печально поблескивали серые, обрамленные почти женскими ресницами глаза. Не такой закоренелый, как его дружок, и потому сразу же успокоенный, он, коснувшись указательным пальцем берета в знак приветствия, первым снова сунул в рот свой окурок, отчего опять закашлялся.
– Курить не умеет,– заметил старший, последовав его примеру в отношении сигареты.
– А ты его учишь, папаша? – спросил я.
Он не ответил, занятый тем, что силился выпустить дым через нос, который был чуточку длинноват. Другой тем временем продолжал кашлять, и, судя по всему, причиной его кашля было отнюдь не курение. Опустив глаза, я взглянул на башмаки мальчонки. Близилось Рождество, но вряд ли найдется камин, который их примет[1]. Очень уж они были паршивые, и притом злобно скалились – ни дать ни взять два прожорливых крокодильчика. А камин чаще всего находит себе добротные ботинки. Ну хорошо. (Так уж принято говорить.) Не найдется, стало быть, камина жалкому ангелочку. Ни камина, ни дерева, то есть пресловутой традиционной елки, сверкающей, разнаряженной и все такое прочее. Ничего не поделаешь, это еще одна радость, которую не каждый может себе позволить. Бывает, что на этой самой елке кому-то охота повеситься…
Я отряхнулся, что заставило меня мысленно крепко выругаться. Невероятно! Не иначе как вид окружающих зданий спровоцировал меня на это! Я уже начинал сожалеть о том, что отговорил жену Демесси явиться ко мне в контору на улицу Пти-Шан. А все потому, что предпочитаю самому себе дать труд двинуться с места, дабы поглядеть на людей в привычной для них обстановке. Иногда это помогает. Так вот, что касается обстановки, я сполна получил то, к чему стремился, да и чего другого, кроме угнетенного состояния, можно было ожидать от одного вида домов, сооруженных по соседству с этим унылым четырехугольником, где расположены вожирарские бойни, загон для скота и бюро находок – заведения общественно полезные, не спорю, хотя по части забав им, мне думается, трудно соперничать с Фоли-Бержер. Я еще раз отряхнулся и поморщился. Ну и тощища! Мне-то чихать на все это. Я, как говорится, не здешний. Меня привела сюда работа. Маленькая работенка, которая, как можно было догадаться заранее, не принесет мне прибыли и не даст возможности взять на содержание какую-нибудь танцовщицу, даже при условии, что остались еще среди них незанятые. Однако, как я уже сказал, Рождество было не за горами, а мне и прежде не раз случалось играть роль Деда Мороза для Демесси, Поля Демесси, парня, которого когда-то я вытащил из нищеты и отвратил от бродяжничества.
Тут я в свою очередь поднял глаза к голубым нейлоновым трусикам, трепыхавшимся так, словно в их складках скрывалась сама Мэрилин Монро, отплясывающая сногсшибательный танец. То был словно клочок неба, зацепившийся там и хлопающий в знак протеста на фоне мрачной декорации, подчеркивая ее неодолимую печаль.
Но вернусь к моим двум молодчикам. Кашлюн перестал кашлять. Он бросил свой окурок. Другой – нет; тот косился на меня, не скрывая лукавого блеска своих гляделок.
– Хорошенькие трусики, а, месье? – молвил он с видом знатока.– Это вы к ней пришли?
– Почему? А что, можно?
Он переступил с ноги на ногу.
– Говорят.
– Но ты не уверен?
Он заколебался:
– Ну…
– В таком случае закрой пасть.
Он, напротив, ее открыл, да так, что челюсть отвисла, по не издал ни единого звука. Окурок вывалился у него изо рта и упал прямо в лужу, где, тихонько зашипев, погас.
Я повернулся к мальчику, которого одолевал кашель.
– Ты здесь живешь, Тото? Тото, Пьер или Поль?
– Анри, месье. Анри Лагранж. Да, месье. Я живу здесь.
– Я к мадам Демесси. Ты ее знаешь?
– Да, месье.
– Можешь показать мне, где она обитает?
Я это знал, но искал способа всучить ему милостыню, не оказавшись притом в дурацком положении. И тем хуже, если он купит себе сигарет на те монеты, что ему перепадут. Хорошего времечка (ха-ха!) ему будет отпущено ровно столько, сколько он сам себе пожелает дать. Я не принадлежу к числу людей, которые отказывают в нескольких грошах бродяге под предлогом того, что бродяга тут же поспешит обратить их в глоток вина. Глоток вина иногда бывает нужнее, чем кусок хлеба. Все зависит от обстоятельств.
– На четвертом, месье,– сказал парнишка, показывая этаж.
Верно, на четвертом. Вон оно, окно с вязанными крючком занавесками, похожими на двух непонятных зверюшек, обреченных вечно глядеть друг на друга. Голубые трусики подпрыгивали в проеме окна этажом выше.
– Спасибо, сынок.
Я сунул ему двести франков.
– Спасибо, месье,– молвил он, сжимая в своей ручонке две белые монетки.– Я провожу вас,– добавил он.
Мы оставили посреди двора старшего в кепке и стали взбираться по железным ступенькам, скользким от хлеставшей воды. Мы добрались до второго этажа, когда наверху разразился скандал. Кто-то, рискуя расквасить себе физиономию, стремительно спускался по лестнице, стуча каблуками по гулким ступеням. Снизу до нас донесся голос старшего в кепке: